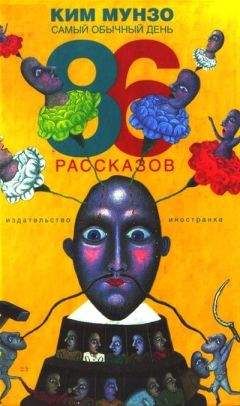Геннадий Головин - День рождения покойника
Но он и просто — скучал по Джеку. Они ведь с детства жили бок о бок. Джек погиб. Осталась зиять в мире пустота, которую никто другой уже не смог бы заполнить. И Братишка, конечно же, тосковал.
* * *…Сначала я услышал радостный вскрик. Потом ударили в ладоши. Жена отворила ко мне дверь и почему-то не сказала, а прошептала:
— Посмотри! Там — Федька…
За калиткой стоял человек и держал в руках черного щенка. Издали трудно было определить, Федька ли это, но человека я узнал. Это был один из тех зимников, к кому мы заходили в поисках Федьки. Мы тогда всем оставляли наш адрес — на случай, если щенок появится. И вот не зря, оказывается, оставляли…
Оскальзываясь по тропинке, я заторопился к калитке.
Увы! Уже за десять шагов мне стало ясно, что это не Федька.
— Ваш? — Благодетель наш так и сиял. Ему было радостно, что он принес людям радость. Ужасно неловко было разочаровывать его.
— Так ведь ваш же! И черный. И с белым галстуком… Все как вы описывали. — Он даже немного обиделся, мне кажется. — Вчера вечером прибился. Уж мы его и гоняли и что только ни делали — не уходит, и все! А потом жена про вас вспомнила…
— Ну ладно. Все равно — спасибо!
У меня было сильное подозрение, что он бросит щенка в ближайший сугроб, если мы не возьмем его.
— Давайте! Спасибо вам большое!
Кобелек перекочевал с рук на руки. Его прямо-таки сотрясала безостановочная больная дрожь.
На руках у меня, пока мы разговаривали с соседом о том и о сем, он вроде бы угрелся, притих, но едва я спустил его на доски крыльца, опять затрясся.
На тощеньких, чересчур высоких ножках, с шерстью, свалявшейся, как пыльный войлок, с тоскливыми мокро блестящими глазами — он был до того убог, что даже не вызывал жалости.
Господи, сколько же надо было голодать, чтобы так наброситься на еду! Он очистил миску со скоростью, не побоюсь сказать, Джека. Ему еще налили. Еще…
Потом испугались, что он может помереть, и сделали перерыв. Но сами же не вытерпели глядеть на это воплощенное недоедание и опять дали миску.
В отличие от наших псов аппетит у новобранца был какого-то истерического свойства. Лишь через месяц он научился, да и то не вполне, относиться к еде более-менее спокойно.
На всю, однако, жизнь осталась привычка прятать куски на черный день. Когда сошел снег, весь сад наш был усеян костями и раскисшими корками хлеба. «Кто знает, как еще повернется жизнь…» — так рассуждал, должно быть, наш новый жилец. А то, что жизнь может повернуться по-всякому, это он уже весьма прекрасно знал, несмотря на юный возраст.
— Знаешь, на кого он похож? — задумчиво проговорила жена, глядя на нашего новобранца. Он только что очистил очередную миску и снова принялся по-актерски дрожать, устремив на нее слезный взгляд своих скорбно-горючих глазок.
— Знаю…
Он был похож на Шлемку Аронова — нашего приятеля, вечно зябнущего, вечно шмыгающего носом, худенького и худо (хотя и не бедно) одетого репортера. В общем-то, неудачника. К тому же еще и поэта, бессовестно подражающего почему-то Уолту Уитмену.
И щенок наречен был Шлемкой. И стал с нами жить. Сначала с опасливой оглядкой, долго еще не веря в свалившееся на него счастье. А потом — все увереннее, все нахальнее и веселее.
И весело нам было глядеть, как из никудышного доходяги получается вполне симпатичная дворняжка, кудлатая, бойкая — точь-в-точь та черненькая Жучка, которую рисовали раньше в букварях.
Перед Шлемкой стояла, конечно, трудная и почти невыполнимая задача: заменить нам двух таких псов, как Федька и Джек. Он старался вовсю. Был весел, предан. На прогулках восхищал нас необыкновенным талантом отыскивать под глубоким снегом недоедки, брошенные лыжниками. Потешно гонялся за кошками, за воронами. Он был хороший зверь. Но мы не торопились впускать его в свое сердце — сердце все еще занято было, — и Шлемка, конечно же, чувствовал это. И не то чтобы обижался он на нас, нет, — тихо, по-щенячьи огорчался.
Братишка встретил появление Шлемки без неприязни, но, уж конечно, и без восторгов. До игр со Шлемкой он не снисходил. Вообще, мало замечал, как кажется. Но по поселку они бегали теперь вдвоем и спали в одной конуре.
Когда Шлемку принесли к нам, на шее у него красовался ошейник. Какое-то время, значит, он жил с хозяевами. Большие, видать, сволочи были те хозяева.
Даже через месяц и через два Шлемка, едва к нему протягивали руку, чтобы погладить, униженно пригибал голову к земле — в ожидании удара.
Он был очень милый пес. Но жестокое, судя по всему, детство непоправимо исказило его характер.
Он был ласков, но это отдавало лестью. Был весел, но за всяким весельем чувствовалась оглядка: «А не попадет ли?..» Он искренне радовался вашему приходу, но стоило сделать неосторожно-резкое движение, как он уже с визгом отскакивал в сторону, искал, куда бы забиться.
Мы звали его «трудный подросток». Самое плохое, что, несмотря на все наши старания, он так и не поверил, кажется, в доброту людей.
Дальнейшая судьба Шлемки такая. С конца весны он стал жить у Закидухи. Ближе к осени он к Роберту Ивановичу почему-то охладел и прибился к некоему Толику, который был тем замечателен, что целыми днями шаркал по маршруту «дом — магазин» с авоськой, полной то пустых, то не пустых бутылок. А Шлемка, надо заметить, обожал ходить в магазин. Звать его стали Цыган.
Когда Толик куда-то сгинул, Шлемка-Цыган так и остался возле нашей торговой точки в стае себе подобных. Он, наверное, и сейчас там. Если, конечно, ни шкуродеры, ни санэпидстанция не вмешались в плавное течение его собачьей жизни.
Но мы были рады, что появился Шлемка. Перестали так болезненно зиять бреши в наших рядах. Какая-то видимость той, прежней жизни появилась. Веселее стало.
Да и в мире уже веселело. Февраль заканчивался. Кончалась зима.
Днями, когда стояло солнце, уже можно было, остановившись где-нибудь в затишке, поймать щекой осторожное дружеское нежное тепло, идущее к нам из весеннего, еще очень далекого далека.
«Мы одолели зиму!» — уже можно было сказать.
…Мы оглядывались. Зима представлялась сумрачным, без конца и без краю, снежным полем, скучно и низко освещенным предвечерним солнцем. И очень редкие невеселые вешки чернели в заунывно-нудной той равнине: какой-нибудь заметенный снегом, едва заметный кустик; какое-нибудь омертвелое от стужи кривоватое деревце; полусгнившая, почти с головой осевшая в снег прошлогодняя копешка…
Тяжкого труда стоило одолеть это унылое поле.
Несправедливы мы были, конечно. Нам и зимой было славно. Просто — кончался февраль. Мы стояли на краю поля, повернувшись уже спиной к нему. Начиналась весна, и все нутро наше аж рвалось навстречу ей, изжаждавшись света, цвета, живых запахов, солнечного тепла!
Это потом только — утоливши первый, самый жестокий весенний голод, — мы смогли оглянуться на зиму спокойно. И сказать друг другу: «А все-таки хорошо было, правда?»
Хорошо было — протянуть окоченелые руки пламенному огню. Слушать, как сначала тупо, а потом все более едко начинает пронзать он мириадами мелких игл оглохшую плоть окостенелых с мороза пальцев. Как, тоненько жужжа, чуть не закипая, начинает толкаться по капиллярам жгучая кровь, — сначала снаружи, под сухо шуршащей пленкой кожи, а затем все глубже, глубиннее. Как сладко мозжит суставы, все нестерпимее, и вот, когда кажется, что уже не выдержать эту странную сладость-боль! — она вдруг проходит…
И вот — руки твои возвращены тебе. Они живы, горячи, сухи.
Но ты все сидишь у печи, и медлишь, и ждешь, и ладони твои, обращенные к огню, — как жадные, как чуткие антенны, которыми ты с первобытной надеждой внимаешь.
Хорошо было — шагнуть из комнаты на мороз. Из горячо и душно натопленной комнаты шагнуть на улицу, в едкий мороз — с неохотой шагнуть, преодолевая в себе надоевшее вялое сопротивление, каждый раз возникающее, когда из теплой комнаты тебе нужно шагнуть на мороз.
В этот миг каждая клеточка твоя, каждая жилочка словно бы ожесточалась и суровела. И весь ты тоже становился напряженно зажатым, добра не ждущим, потому что из теплой комнаты шагнуть тебе надо было в мороз, шагнуть — и вдруг нежно, благодарно обмануться, ахнув сердцем при виде снежно-голубого, блистательно сверкающего под солнцем веселого великолепия, сочиненного за ночь морозом и снегом!
Шагнуть за порог и — не пленником зимы, а желанным почувствовать себя тут. И с облегчением развеселиться, почти без причины — от одного только бодрого капустного хруста снега под ногами.
Хорошо было — серым вечером, метельным жемчужным вечером возвращаться домой.
По-корабельному грозно и шумно ходили из стороны в сторону сосны, светлые на мутно-белом текучем небе. Ветер — то ломил упрямо (тогда приходилось ложиться на ветер грудью), то — мелким бесом принимался суетиться вокруг, швыряя пучками снега спереди, сбоку, сзади. А над головой — в желтеньком пространстве вокруг фонаря — было видно: снег неостановимо несется сплошной полосой, почти параллельно земле, не различимый на отдельные хлопья. И было страшновато от этого изобилия и злой устремленности снега, но все же невзаправду страшновато, потому что метель была теплая и слишком уж все напоминало кино.