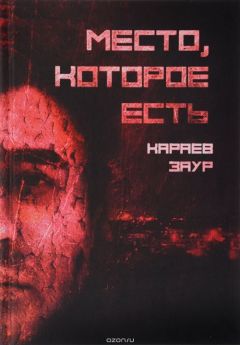Феликс Кандель - Шёл старый еврей по Новому Арбату...
– Можно и так… «Завтра! После работы! Первое: международное положение. Второе: дрессировка легавых собак. После дрессировки танцы».
– Зачем охотникам танцы?.. – спросил мужчина в ускоренном замирании чувств.
– Танцы – обязательно, – поучительно произнес Штрудель. – Где международное положение, там и танцы. Иначе к вам охотники не придут. Не такие они охотники, как кажется.
– Я не согласен, – снова сказал мужчина, привалившись к стене.
Штрудель всплеснул руками:
– Надо же! С ним советуются, а он не согласен… Можно, конечно, иначе, совсем будет хорошо. «Первое: международное положение. Второе: дрессировка легавых собак. Третье: разбор персонального дела».
Тот растерялся:
– Какого еще дела?..
Штрудель:
– Вам виднее. Подберите охотника, который не товарищески относится к собаке, проработайте его.
– Охотникам это не нужно! – тоненько закричал мужчина.
– Кто дал тебе право говорить от имени охотников? – сощурился Штрудель, как взял на прицел. – А впрочем, давай так: «Завтра! После работы! Лекция о международном положении. После лекции – разбор персонального дела: морально бытовое разложение. После разложения – танцы. Легавые собаки на лекцию не допускаются».
– А где дрессировка?.. – прошептал мужчина, и на этом его жизнедеятельность закончилась.
– Никакой дрессировки, – твердо заявил Штрудель. – Мы не можем идти на поводу у легавых собак.
– Я про-тестую…
– А ты, братец, склочник. С ним советуются, а он протестует и протестует.
Мужчина уходил по вестибюлю на подламывающихся ногах. Штрудель с жалостью поглядел вослед, спросил напоследок:
– У вас сколько легавых собак?
Ответил, не оглядываясь:
– Ни-сколько...
– А охотников?
– И охот-ников…
– Нет у них собак, – подтвердил петух. – Охотников тоже нет.
– Это ты соорудил?
– Я, всё я. Экзамен выдержан, Штрудель. Я тобой горжусь.
– Теперь домой? За угол?
– Теперь в тюрьму.
3
Шли рядом.
Осматривали окрестности.
Кавалер ордена произнес в огорчении:
– «Народ можно заставить повиноваться, но нельзя заставить понять – ради чего...»
– Это мне известно, – откликнулся Штрудель. – Это я припоминаю.
– Многие припоминают. А что толку?
Тут оно и случилось, еще одно приключение.
– Стоп! – приказал петух. – Вот он, странноприимный дом. Приют для неисцелимых.
Табличка у подъезда.
Швейцар на входе.
Строг. Деловит. Неуступчив.
Спросили:
– Заглянуть можно?
Ответил:
– Заглянуть нельзя.
– А поселиться?
– Не возбраняется.
– Мы подумаем, – сказал петух.
– За вас подумают, – сказал швейцар. – Тогда и поселят.
А некто уже бежал по улице.
Петлял, запутывая следы.
Встал перед швейцаром.
– Фамилия? – спросил тот.
– Небесталанный.
– Род занятий?
– Небезрезультатный.
– Образ жизни?
– Небезупречный.
– Ход мыслей?
– Непозволительный.
– Годишься.
Подал знак.
С верхнего этажа скинули веревочную лестницу.
Небесталанный шустро полез наверх, и швейцар пояснил:
– Новенький. Поспеет к обеду.
– А если обратно? Тоже по веревке?
Усмехнулся:
– Обратно им незачем. Только туда.
Небесталанный высунулся из окна в казенной робе, выговорил слово, которое залежалось:
– В каждом алфавите своя буква «А». В каждой голове своя академия. Пиджаки бывают однобортные и двубортные. Трехбортных пиджаков не бывает.
Распахнулось другое окно.
Выглянула женщина с казенным чепчиком на голове. С номером на груди.
Заговорила горячо:
– Не согласна. Категорически. Ибо существует один только алфавит, и он наш. Одна академия в головах – тоже наша. А пиджаки бывают такие, какие выдадут.
Распахнулись иные окна, прокричали оттуда в порыве усердия:
– Вменить непременно…
– Всем и каждому…
– Дабы по четным дням…
– Размышляли о благостной руке правителя…
– Отдыхая по нечетным…
– От столь высоких размышлений…
– Всё, – сказал швейцар. – Теперь начнется. До ночи не утихнут.
Штрудель подивился:
– Как вы такое допускаете?
Ответил несмышленому чужеземцу:
– Сажать – тюрьмы перегружать. Плодить негодующих. А тут – выговорились, вкусно поели, разошлись по палатам.
– Не влияет ли это на прочих горожан?
– У нас не повлияешь. Всякому известно, что эти, в приюте, умом повредились, – кто станет слушать?
– Выбраться отсюда можно?
– Выберешься – обратно прибежишь.
Петух взмахнул крыльями, кукарекнул восхищенно:
– Кок-а-дудль-ду!.. Не поселиться ли тут, друг Штрудель, среди предающихся потехе?
– Нет, – отрезал швейцар, как оттолкнул. – Вас ожидает иной приют.
4
Шел мимо городской юродивый в непристойных одеждах, шел – бормотал, в отчаянии хватался за голову:
– «Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть…»
– Куда ты у нас поплывешь, – ухмылялся Сиплый, – когда на приколе?..
– Куда ты у нас приплывешь, – ухмылялся Сохлый, – когда некуда тебе плыть?..
Пришел домой, ломал в отчаянии руки, повторял вопль из глубин истории:
– «Кто мог думать, ожидать, предвидеть?.. Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя…»
Уткнулся головой в стену, добавил неслышно:
– «Дух мой уныл, слаб и печален… Я закрываю лицо свое…»
Сел за стол, сочинил подметный лист, которому не подобрать названия.
«В одно время, на одной планете, на единой параллели и соседних меридианах располагались два поселения, разделенные ущельем непонимания и взаимного отвращения. В выходные дни жители поселений собирались толпами и перекрикивались через ущелье, обзывая друг друга обидными прозвищами и вызывая на соревнование двух систем.
Следует отметить, что первое поселение было королевством, а второе – парламентской республикой.
По утрам король-самодержец делал зарядку, принимал ванну, завтракал, слушал музыку, уединялся с фрейлинами, стрелял перепелов, а уж затем, к вечеру, подписывал государственные акты и манифесты, поправки к циркулярам и поправки к поправкам.
Избранник народа из враждебной республики поступал иначе: с раннего утра, натощак, занимался государственными делами, обустраивая и преобразуя, а уж потом принимал ванну, завтракал, слушал музыку, забавлялся с посланницами народа и стрелял перепелов.
Так они и жили, ни в чем не согласные, отличные во всем друг от друга.
Говоруны и молчальники.
Мясоеды и вегетарианцы.
Подданные монарха гордились тем, что ради них всходило солнце, а республиканцы знали наверняка, что светило садилось исключительно для того, чтобы они могли полюбоваться на закат.
Уместно предположить, что по одну сторону ущелья нарезали на болтах правую резьбу, а по другую – левую. По одну сторону надевали приталенные одежды, по другую – расклешенные. Когда одни начинали посев, другие завершали жатву, даже если ничего не выросло. И если в королевстве переходили с летнего времени на зимнее, республиканцы переводили стрелки часов на лето.
Ученые утверждали даже, будто приталенные мыслили вдоль извилин, а расклешенные – поперек, но доказать экспериментальным путем это не удавалось.
Манифесты самодержца увеличивали то, что стоило бы уменьшить, а избранник народа уменьшал то, что не мешало бы увеличить. В республике стыдились того, чем прежде гордились, а в королевстве – наоборот: чего прежде стыдились, то превозносили непомерно.
Подданные монарха работали старательно, не торопясь, семь раз отмеряли и ни разу не отрезали, ибо опасались промахнуться с размером. Граждане парламентской республики всё делали с удалью: сначала резали, а уж потом отмеряли.
Но результаты были одинаковы у тех и у этих.
Результатов не было никаких.
Каждая сторона поступала по-своему, но выходило как у соседей.
И непременные призывы – белилами по кумачу».
5
А Неотвратимая Отрада Вселенной застыл у окна, пребывая в меланхолии, выговаривал в тоске:
– Некий правитель запретил подданным разговаривать друг с другом, чтобы предотвратить заговоры. Они стали беседовать жестами, но он и это запретил, – тогда они стали плакать. Хотел лишить их плача, но его убили.
Взглядывал с грустью на отцветающие сады, декламировал вполголоса плачевную элегию:
Жизнь мгновенная, ветром гонима, прошла,
Мимо, мимо, как облако дыма, прошла…
– Ах! – возопили советники. – Ах, ах! Он и в дипломатии силен, он и в ямбах-анапестах!..