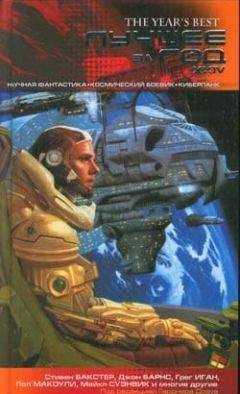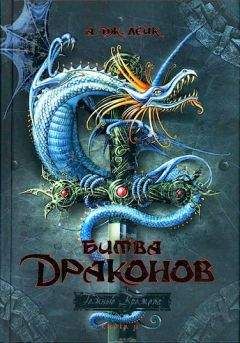День между пятницей и воскресеньем - Лейк Ирина
Как же легко быть юной! Все на свете тебе подчиняется, а тело торопится, все время торопится. Зачем идти, когда можно бежать и танцевать? Зачем говорить, когда можно кричать и петь? Зачем делать умный вид, когда можно честно смеяться и горячим шепотом рассказывать тайны? А тайны — все такие важные, и от них буквально зависит вся твоя жизнь, и мир может рухнуть, если только кто-то о них узнает. Никуда не надо спешить, но ты спешишь, все время спешишь, потому что юность — она никому не дает покоя. Какое счастье, что она длится так долго! Она как небо — высокое и бесконечное, надежное и уютное, потому что в небе самый главный и самый любимый человек — папа. Можно прибежать на аэродром пораньше, сесть на крылечке — никто не прогонит, все тебя знают — и ждать папу из рейса, когда он вернется, красивый и строгий, в форме и фуражке, и бежать, и бежать ему навстречу, а потом уткнуться в его запах… И никогда не взрослеть. А вечером в субботу идти с папой в театр, и все будут улыбаться и протягивать ему руки — папу знает весь город, — все станут непременно говорить, какая красавица у него дочь, и как быстро она выросла, и ведь совсем невеста. И папа будет гордиться. Можно будет крепко держать его за рукав, и от него будет пахнуть свежим одеколоном, сигаретами и ветром далеких городов. Пытаться изо всех сил запомнить этот запах, ведь папа скоро опять улетит, и нужно будет провожать его, и стараться не плакать. А потом убежать на поле за аэродромом, упасть на траву, раскинуть руки и смотреть на брюхо самолетов, чувствовать, как земля дрожит от их гула, а когда все стихнет, поймать ветер за крылья и кружиться, кружиться, кружиться! Как легко! Как прекрасно быть юной!
— Мама! Мамочка, просыпайся! Дима, как можно было так включить печку, ей же дует прямо в лицо! Мама! Просыпайся, дорогая, вылезай из машины. Ты и так проспала почти полтора часа.
Кто это может быть? Кто это говорит? Разве я заснула? Заснула прямо на траве? Ну, да, пахнет полынью. А где же ветер? Ведь был же такой горячий ветер… Не надо было так сильно кружиться, папа предупреждал, говорил, не надо. Просил надеть косынку, чтобы не напекло голову. Надо было послушаться, а теперь веки такие тяжелые…
— Мамулечка, дорогая, просыпайся. Вот, хорошо, открывай глазки, пойдем в дом… Фу, Дима, что за запах? Это новый освежитель? Что это, эвкалипт? Господи, как воняет, где ты его взял?
— Это полынь, Вер. В салоне купил. Мне сказали, успокаивает. «Степная полынь» называется. Очень натуральный. Прям полынь-полынь. Как в степи. Я подумал, маме твоей понравится, будет меньше беспокоиться. И тебе в качестве успокоительного.
— Гадость ужасная!
— Ясно, тебе, видимо, его лучше в чай покрошить. Или в суп. Микродозы бесполезны. Может, тебе его пожевать, Вер?
— Сам его жуй, шутник. Шутит он… — Вера в шутку пихнула мужа в бок и опять полезла на заднее сиденье будить разомлевшую маму.
Потом они ужинали, и это был уютный семейный ужин накануне выходных: много еды, много смеха, завтра никому не вставать в раннюю рань, никуда не мчаться. Все дома, даже Ниночка приехала, и близнецы не капризничали, а весело топали, держась друга за друга и пытались поймать таксу Сему. Большая семья, большой дом, в котором как будто и не живет болезнь и тревога.
Лидия Андреевна в строгом платье, с ниткой жемчуга на шее восседала на высоком стуле во главе стола и рассказывала истории, ни разу не ошибившись в датах сорокалетней давности, именах-отчествах, званиях и наградах коллег своего покойного мужа, количестве членов Политбюро и сюжетах старых кинофильмов. Правда, она упорно называла Славу Мишей, сразу же забыла, что только что уже съела два куска грушевого пирога и обиделась, что ей так и не предложили десерт, но и этот конфликт был быстро улажен. Митю и Мотю отправили спать, и Лидия Андреевна сказала, что тоже пойдет к себе, потому что хочет еще почитать на ночь. Вера повела ее наверх по лестнице, наслаждаясь ясным вечером в маминой голове: никаких ссор, скандалов, обид и страхов. Никаких «подозрительных посторонних» в доме. Она помогла маме переодеться, расстелила постель, включила торшер и музыку — Дима сделал специально для нее подборку старых песен и даже нашел где-то старые выпуски новостей. Лидия Андреевна тихонько подпевала, пританцовывала и водила руками по воздуху, улыбаясь кому-то невидимому, но, похоже, очень симпатичному.
— С тобой еще посидеть, мам?
— Нет, не нужно, детка, у тебя и без меня столько дел. Ужин был прекрасный, спасибо! Хотя можно было приготовить и десертик, но и без него все чудесно, просто чудесно. И чай такой душистый, ты добавила чабрец? Это же заварка «со слоном», да, Верочка?
Неужели? Она не верила своим ушам, в последнее время мать узнавала ее все реже, а чтобы помнить еще и имя — это был совсем праздник. Но, похоже, Вера рано обрадовалась.
— Хорошо, что ты стала почаще заходить к нам с папой, — сказала вдруг Лидия Андреевна совершенно серьезно, — мы всегда тебе рады, ты же видишь. Давай больше не будем ссориться, милая, ладно? Тебе пора перестать упрямиться. Разве это профессия — то, что ты выбрала? Не позорь нас, прошу. Нужно идти учиться во второй мед, нужно. Мы же во всем тебе потакаем, мы ведь даже не возражаем, что ты приводишь к нам в дом своего так называемого мужа. Хотя я не слепая и не глупая, Веронька, я же вижу, что он у тебя каждый раз разный… Но я ведь ничего не говорю, муж так муж, называй их как хочешь, главное — чтобы ты была счастлива.
Она пожелала маме спокойной ночи, убедилась, что та приняла таблетки (пару раз она ухитрялась незаметно их выплевывать), и спустилась вниз. Там все еще уютно галдело за столом их семейство. Только уставший от детских притязаний Сема растянулся на полу толстой колбасой с короткими лапками.
— Ну, что, угомонилась? — спросила Мила.
— Да, — вздохнула Вера, погладив собаку и устраиваясь поближе к окну. — Была мила, добра и снисходительна. Ограничилась только замечанием о моем моральном облике.
— Опять меняешь кавалеров как перчатки?
— Да, Дима опять каждый раз разный.
— Нет, вот где в жизни справедливость, скажите вы мне? — наигранно возмутился Дима. — Я таскаюсь с вашей мамой больше всех, между прочим, и по врачам, и по процедурам, и эти гастроли «на аэродром» — тоже вечно я.
— Сегодня тоже гастролировали? — спросила Ниночка.
— Ну, да, видишь же, чемодан в коридоре, не успели убрать.
— Странно, обычно у нее «аэродром» по субботам…
— Погода меняется, пораньше «накрыло».
— Так вот, вы мне скажите, почему я каждый раз разный, а? Здоровый мужик с бородой! Как меня можно не узнавать и путать. Это я-то разный? Ну, ребят?
— А лучше было бы, если бы она тебя узнавала? — спросила Мила, собирая со стола тарелки. — Это счастье, что ты у нас годишься на все случаи жизни: и водитель, и доктор — уговариватель пить таблетки, и курьер из совета министров, и все Веркины мужья заодно! Доешьте салат, кто-нибудь, а? Жалко же выбрасывать, а в холодильнике стечет. И баклажаны вон остались, три кусочка.
— Слушайте, а я вспомнила, — вдруг сказала Вера.
— Что вспомнила? Тебе тоже не дали тортик, бедная моя?
— Да подождите вы, не смейтесь. Я вспомнила ту юбку, Мил. В красных цветах. У нее ведь правда была такая юбка.
— О чем вы вообще?
— Она сегодня собиралась на этот свой аэродром и очень расстроилась, что не может найти юбку, какую-то красную, с цветами. Бред очередной, в общем. Кричала на нас, что мы с Веркой таскаем ее вещи, а она без этой юбки не может лететь. Я ей сказала, что у нее нет такой юбки, а она еще больше рассердилась, расстроилась, Веру потом не узнала.
— Так вот, это не бред! — перебила Милу Вера. — Та юбка, я ее вспомнила! Я была совсем маленькая, а Милка, наверное, вообще кроха. Я маме не доставала даже до пояса, помню, был какой-то праздник, день рождения, наверное: взрослые все танцевали, и мама танцевала, а я устала и хотела к ней на руки, хныкала и цеплялась за эту юбку, чтобы она меня взяла. Огромные красные цветы на ней были. Огромные! А юбка кримпленовая, тогда была такая ткань, кримплен… Модная. Мама вообще красиво одевалась. — Она вздохнула. — И юбка эта была у нее. Точно, была. Она знала, что ищет… Она не придумывала.