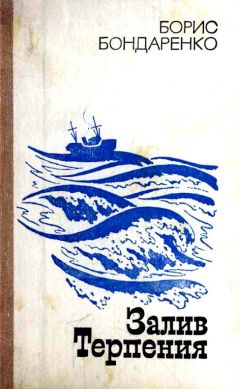Залив Терпения - Ныркова Мария
— чего там такое?
стараясь говорить тише, я рассказала о неприятностях с заселением, о соседях по комнате. мол, вот, они тоже моряки, только другие, стереотипные, что ли. а я, обычно такая смелая, здесь вдруг стала бояться.
— еще и мама с папой напоследок напугали, знаешь. звонили мне вчера перед вылетом весь вечер: маша, все документы держи в напоясной сумке, на попутках не вздумай ездить, в Тихую бухту без машины не суйся, не выберешься оттуда и будешь с медведями ночевать.
— волнуются же за тебя. и я волнуюсь.
— да я знаю, просто, блин, я тоже волнуюсь из-за этого, и мне страшно становится, а мне теперь нечего принимать, чтобы вдруг перестало быть страшно, и я совсем одна и…
повисла между нами моя предслезная пауза. я знала, какие слова утешения хочу услышать, но они не прозвучали.
— да отъебись, я по телефону разговариваю, Серый, блядь! — крикнул он мимо трубки, в какое-то пространство. я его никогда не видела, а только знала, что оно наполнено другими мужчинами, у которых нет морской болезни.
в такие моменты я вижу, что он отодвинул трубку от уха и машет на Серого, Белого и проч. руками, что нужно подождать. мне передается его злость на невидимого нарушителя разговора, и я начинаю раздражаться, что не получила вовремя слов поддержки, которых хотела и которые видела во всяких руководствах типа «как общаться с человеком с депрессией», «как успокоить человека с панической атакой»…
— скажешь, может, что-нибудь?
— что я должен сказать?
— я не знаю, придумай.
— не придумывается. расскажи лучше еще что-то. как там все выглядит?
— сегодня все серое. идет дождь, туманно, холодно, а я очень спать хочу.
— так чего не спишь?
— все боюсь упустить что-то.
— ясно.
— у тебя как все выглядит?
— одинаково. всегда одинаково.
я сдавалась. он куда-то проваливался. наверное, прислонился к стене и стал засыпать. его голос стал мягким и тихим.
— что завтра будешь делать?
— я не знаю пока что. я все в какой-то растерянности…
— ну чего ты… так долго мечтала и вот сама доехала, такая смелая! ты молодец!
— спасибо…
мы проговорили еще какое-то время отрывочными репликами, перекинулись парой шуток и пожелали друг другу спокойной ночи.
однообразность жизни тяготила его, кажется, в этих разговорах он уставал от самого себя, от того, что ему нечего рассказать. раньше он брал было за правило со смехом повествовать мне про их распорядок дня, подъемы, завтраки, отбои, но это угнетало его даже больше.
дособрав наконец бутерброды, я ела и медленно думала о том, что еще он мог бы мне сказать или что еще могла сказать я, чтобы наше вечернее свидание длилось дольше.
его отец был военным в отставке. он перевез свою семью за город, в дом, который построил сам. за ним в городе числилась маленькая двушка возле военной части. пятиэтажный дом, где раньше были казармы; а теперь квартиры, разделенные картонными стенками, для служивших или служащих я видела из окна. из-за этой квартиры, в которой давно никто не жил, мы когда-то не расстались. так я думаю. потому что в этой квартире мы прятались от всего мира, благодаря ей могли оставаться наедине так, чтобы никто об этом не знал.
помню, как мы пришли туда в первый раз. он использовал это место как перевалочный пункт. заходил после школы перед тем, как отправиться на тренировку, потом возвращался, оставлял спортивный инвентарь и шел домой, в деревянный домик за рекой.
в тот день он тренировку прогулял. он знал, что у меня нет денег заплатить за интернет, поэтому после школы я торчу у одного окошка неподалеку, где ловит вайфай. он пришел туда и позвал меня гулять. я еще не знала, что влюблена, но в тот день как бы разрешила себе узнать — увидела, что могу рассчитывать на взаимность.
ему нужно было забрать школьный рюкзак, который он оставил в своем тайном гнезде. я шла за ним по длинному темному коридору, в котором перегорела лампочка. потом я узна́ю, что она перегорела навсегда и никогда никто не заменит ее. в самом конце коридора — широкая деревянная дверь. он медленно открывает ее, пропуская меня в предбанник для двух квартир. в соседней, как он мне говорит, живет бывший военный врач, сейчас он работает на скорой. в предбаннике застойный воздух и много чужих ботинок. он медленно открывает вторую дверь. снова коридор — весь деревянный, шкаф с зеркалом, отражающим нас двоих, и рядом пустой стул. не раздевайся, говорит он мне, я быстро. не разуваясь, он проходит вглубь помещений, а я сажусь на стул, пытаясь разглядеть, что же находится внутри квартиры. я очень растеряна. почему-то мне казалось, что мы зайдем и начнем целоваться и признаваться друг другу в любви с порога. но он нарочито холодно забирает рюкзак и выходит, жестом зовя меня за собой.
мы еще не скоро туда вернемся. целый месяц каждый день после школы мы будем робко гулять по району вокруг да около, сидеть на трубах, обшитых стекловатой, а потом чесаться. впервые возьмемся за руки на трубе во время живого диалога и оба резко замолчим. потом мы начнем обниматься, как бы учась. будем стоять у подъезда, обнимаясь часами. уже выпадет снег, а мы словно все это время, с сентября по ноябрь, простояли там — две статуи.
похолодает. зима загонит нас в пещеру без лампочек. мы будем сидеть на пыльном старом диване в комнате с высоченным потолком, он на одной стороне, а я на другой, и разговаривать, медленно пододвигаясь друг к другу. однажды мы сомкнемся, в глубокой темноте, и он скажет, что никогда никого не целовал, кроме мамы. я скажу, что научу его, хотя я тоже не умела. мой первый и единственный поцелуй закончился мытьем рта с мылом по моей собственной инициативе.
те два года будут самыми живыми для моихгуб. они будут много болтать и целоваться. с обезумевшим от страсти взглядом я буду возвращаться домой в темноте, меня будет знобить от резкой смены температур и возбуждения. в лифте, поднимаясь на девятый этаж, я всегда буду замечать свои опухшие обветренные губы, очень красивые — преобразующий элемент. в квартиру мы купим чайник и будем пить из общей кружки. на ее бежевой стенке нарисована женщина в бикини. если налить в кружку горячей воды, бикини исчезнет и женщина станет совершенно голой.
зимой одиннадцатого класса мы шли через мост над местом, где реку заковали в трубу. нужды в этом мосте давно не было, но он существовал, и мы гуляли по нему, смеясь, обсуждая мир или осуждая его. жаль, что через полгода все это закончится, сказал он вдруг, в миг, когда я хохотала над какой-то глупостью, запрокинув голову. я посмотрела на него осуждающе. зачем ты все испортил? его тело болталось из стороны в сторону как неприкаянное. он покрутился вокруг себя на тонких ногах, пожал плечами. мы оба знали, что он не найдет в себе сил сопротивляться воле отца и что его профессия была определена, еще когда он не до конца сформировался в утробе.
не надо так говорить.
но ведь все закончится. я уеду. не хочу, чтобы ты оставалась, чтобы все это тебя сдерживало.
но я хочу.
он покачнулся и упал на колени, как-то неестественно изогнувшись, показывая, что не выдерживает этого разговора и этой жизни. я засмеялась и присела рядом с ним, приподняв его голову, направив его потерянный взгляд к моему. мы оба улыбались.
не будет такого. я же люблю тебя.
и я люблю тебя.
в доме моей бабушки жили военные и преподаватели. по дорожке направо — педагогический университет, по тропинке налево и вниз по железной трясущейся лестнице — военная часть. в детстве мы с подружкой устраивали пикники на танке, наряжая розовощеких беби-бонов в платьица и шляпки, расставляя перед ними пластиковый сервиз, а по полигону вышагивали с бойкой «Катюшей» отряды срочников. мы подпевали.
О. сказала, что это хитрая советская задумка: соединять военных и учителей как важные мобильные социальные группы, которые готовы служить на благо родине в любом залупинске. «так учительница и офицер начинают встречаться, женятся, а потом бац — и уже на Сахалине», — говорит она. кажется, это продолжает работать. я усмехаюсь. она, кстати, не знает, что я недоучительница, которая любит военного моряка. что я как будто долгоиграющая музыкальная шкатулка с советской фабрики игрушек. и что у меня на пробковой доске вместо фотографий с друзьями висел портрет Ленина, пока я не поступила в универ. мне потом стало стыдно за эту любовь — все в Москве были такие продвинутые либералы. война заставила меня стыдиться и за партнера. но гораздо больше стыда ненавидеть войну. ненавидеть войну как женщина.