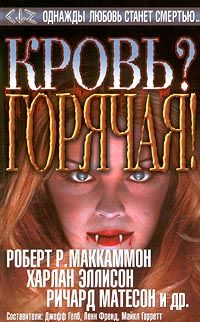Всё, что у меня есть - Марстейн Труде
— Подумай о детях, об Элизе, — увещевала ее тетя. — Как ты думаешь, что сейчас у них в голове? Как они смогут понять, что происходит? Ты что, не видишь, что творится с Моникой? Она же почти ничего не ест!
Мама ругалась и тихо плакала.
— Не вздумай рассказать об этом маме, я тебе не разрешаю! — кричала она. Потом тетя Лив уехала, а у меня разболелся живот, и боль становилась все сильнее.
Когда я очнулась в больнице после операции, комната была залита светом, а на ночном столике лежали виноград, шоколад, кукурузные палочки со вкусом сыра и журналы. Солнечные зайчики плясали на дверцах шкафа, и мама со слезами в голосе спросила: «Тебе хочется еще чего-нибудь?» Когда я проснулась в следующий раз, солнечные зайчики исчезли, а на стуле у окна сидел папа. И я поверила, что отныне все будет хорошо. Его не было больше месяца, и никто не знал, где он. Теперь он сидел на стуле с блестящими металлическими ножками, и я принялась рассказывать — о больнице и медсестрах, и о том, как это — проснуться после наркоза, о проколотой велосипедной шине и о том, что осенью я снова пойду в школу. Я говорила о том, что мой любимый предмет в школе — норвежский язык, но все же лучше летних каникул ничего быть не может. «Ой, как же болит шов», — проговорила я и заплакала, а папа встал и пошел за врачом или медсестрой.
Я стою на лестнице и смотрю, как папа вытаскивает из машины ящик с газировкой и ставит его в гараже, относит в кухню мешок с сахаром для варенья. Потом он кладет чемоданы тети Лив, Халвора и Элизы в багажник. Тетя Лив на прощанье обнимает меня и долго не отпускает, от нее пахнет топленым маслом и духами с ароматом из моего детства — английские конфеты и зеленый лимонад с парома в Данию. Она прижимает меня к себе так крепко, словно это наказание или воспитательная мера: мол, не отпущу, пока не попросишь о пощаде, пока не осознаешь, что наделала. И все же она разжимает объятия. У Элизы длинная шея и отсутствующий взгляд, она забывает меня обнять. Лоб кажется слишком высоким из-за тугих косичек, она не выглядит взрослой. Я пытаюсь угадать, как они поделят места в машине, кто с кем сядет рядом. Халвор наверняка уткнется в комиксы про Дональда на переднем сиденье, а тетя Лив и Элиза сядут вместе и проболтают всю дорогу — о новом приятеле тети, о медицинском колледже, о маминой мигрени, о том, каково папе, и обо мне. Я могла бы позвонить Анне Луизе и сказать: это было глупо. Или сказать: это просто глупо, давай уже покончим с этим. Но что же глупого, она ведь сказала те слова и ушла через школьный двор, расчерченный для игры в классики, а мы могли бы стать подругами, которые всегда поддерживают друг друга. Но я не звоню ей. Она сказала, что мама — жалкая училка музыки, что ей вовсе не надо было становиться учителем. Что Гуннар говорил, будто мама заплакала из-за того, что ученики разговаривали во время занятий.
Я могу спросить Кристин, хочет ли она поиграть в шахматы или вист, но она все равно откажется.
Никто не отправляет меня в постель, я укладываюсь сама. Я слышу, как родители разговаривают внизу. Я продолжаю читать.
В книжке отцу Стины не продлили договор аренды, он очень расстроен и пьет весь вечер до беспамятства, пока лицо не становится сизым, а ночью у него останавливается сердце. Мать на похоронах не плачет.
Если мы с Анной Луизой опять не подружимся, мне придется начать жизнь заново или же остаться наедине со всем тем, из чего моя жизнь состояла до сих пор, когда мне было шесть, девять, одиннадцать, двенадцать. Было все: голодное бедствие на мусорной свалке, мы чуть не утопии во время отлива, а еще шведская жвачка со вкусом ананаса и литр неразбавленного морса, нас потом рвало за деревом жижей кровавого цвета. Защищать все, если нужно, или отказаться от всего. От рододендрона в углу сада с тенистым укрытием на влажной земле. Мы становимся все старше и взрослее и понимаем все больше. Все, что было у нас общего, теряет смысл, смысл, который витает в комнате, где никого нет.
Без пятнадцати одиннадцать внизу звонит телефон. Я прочитала больше половины книги, лежу в кровати без сна и слышу, как папа снимает трубку:
— Привет, Лив, да, да, прекрасно, приятно слышать.
Однажды все это будет принадлежать другому времени, я уеду отсюда далеко-далеко, оставлю все позади и, возможно, даже не захочу приезжать в гости.
— Как поезд, нормально добрались? — говорит папа. — Всегда ждем вас в гости, приезжайте.
Я слышу, как за окном включается поливалка, звук водяных струй похож на стрекот кузнечика.
Бессмертие
Сентябрь, 1980
Когда Элизе было двадцать пять, она вышла замуж за зубного врача на шесть лет старше нее. Они сфотографировались на мосту Виндебру, и Элиза бросила вниз розу на счастье и удачу. Два года спустя у них родился ребенок — мальчик. Пока они снимают квартиру, но совсем недавно купили дом недалеко от родителей. Почти все комнаты в нем застелены искусственным ковровым покрытием коричневого цвета.
На берегу реки под плакучей ивой Франк объясняет мне, почему он не может сейчас вступить со мной в серьезные отношения. Для этого у него есть ряд причин. Деревья уже облетают, но нависающие над нами ветви еще покрыты желто-зеленой листвой, сухая утоптанная земля усыпана листьями и ветками, утки нарезают круги на поверхности реки.
— Мне всего двадцать четыре, — говорит он и выдыхает облачко дыма. — А тебе всего двадцать. Я не создан для семьи. Я из тех, кто ценит свободу.
Я убеждаю его, что мы подходим друг другу. Я тоже не создана для семьи. Мне тоже нужна свобода. Я злюсь, и это даже хорошо, что боль и отчаяние сменяются гневом. Я спала с Франком много раз. Я бы не стала этого делать, если бы знала, чем все закончится. Не спала бы с ним и не спрашивала бы у Элизы разрешения прийти на крестины Юнаса вместе с Франком. Порой мне казалось, что инициатором наших отношений была я, а не он. Франк замолчал и смотрит на меня с улыбкой, в которой читается вопрос — с тобой все в порядке? Ты, вообще-то, в себе? Откажи я ему хоть раз, натолкнулась бы на ту же вопросительную улыбку — с тобой все в порядке? Мы ложились в постель, его дыхание обжигало кожу и обволакивало меня, я растворялась в нем без остатка, а когда приходила в себя, по лицу Франка скользила улыбка или, скорее, насмешка — эй, ты здесь? А, вот ты где!
Скажи, ради бога, это нормально, — отбросив условности, ходить голой по комнате, или этого делать не стоило? Потому что я не знаю, не понимаю ничего.
Вот что я бы хотела сказать Франку, но у меня не получается, это нельзя выразить словами.
У Франка редкая бородка, анорак с карманами на груди. Он щелчком отправляет окурок в реку, потом берет мой и выбрасывает следом. Франк тянется вверх, отламывает тонкую веточку плакучей ивы, гибкую, словно леска, крутит ее в руках и легонько проводит ею по моему лицу, потом запускает руку мне под свитер. Я уже не злюсь. Просто ужасно расстроена.
— Я буду скучать по тебе, — произносит он, глядя мне прямо в глаза, полные слез. Он нежно проводит большим пальцем по соску. Чувство стыда, смешавшись с горечью, накатывает волнами — зачем я спросила Элизу: «Можно я приду на крестины с моим парнем? — Выражение ее лица тогда придало мне уверенности. — Я чувствую, что так будет правильно. Я еще так никогда не влюблялась».
Я выложила все — что мы обсуждали, как будем жить вместе, и что он признался, что хочет от меня детей.
«Думаю, тебе стоит притормозить, — сказала Элиза тогда. — Мы с радостью познакомимся с Франком, но, может быть, немного неуместно совмещать это с крестинами Юнаса?»
Ну уж нет, с этим согласиться я не могла. Вообще-то, можно организовать знакомство и до крестин, мы с Франком готовы приехать во Фредрикстад когда угодно.
«И на крестины Франк готов с тобой ехать?» — спросила Элиза.
Не далее как позавчера поступки Франка приводили меня в восторг. Лежа в кровати, он зажигалкой открывал бутылки с пивом, дул мне в пупок, рассказывал о ванильном печенье, которое обожал в детстве. Его поведение укрепляло мою уверенность в том, что он — именно тот, кто мне нужен, что он прочно вошел в мою жизнь.