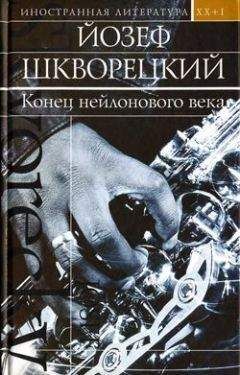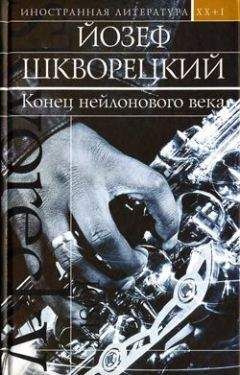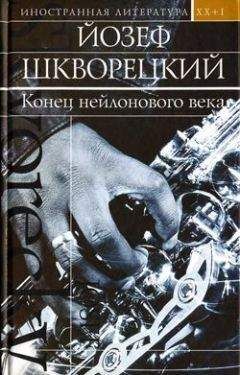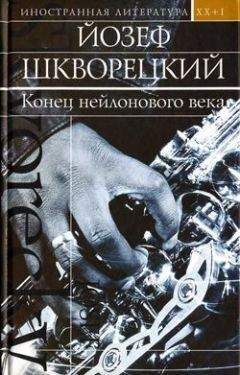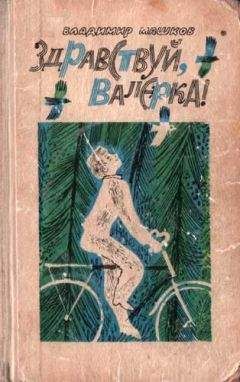Конец нейлонового века (сборник) - Шкворецкий Йозеф
Евреям в это время запретили посещать рестораны и отняли у них автомобили. Всюду висели таблички «Евреям вход запрещен», и только на заведении, что находилось у реки на самой окраине города и называлось «Порт-Артур», повесили вывеску «Кофейня для евреев».
Однажды поздним летним вечером, когда солнце, словно медовый сироп, лежало на всем вокруг, и на душе тоже, я проходил мимо этого кафе: я только что проводил домой Ирену, она смотрела на меня своими карими глазами, чего мне было тогда вполне достаточно для счастья, – и пришло мне в голову заглянуть в окошко этого кафе. Поскольку на окно падали солнечные лучи, мне пришлось прижаться носом к стеклу, как я делал обычно в кафе у нас на площади, когда был маленьким.
Внутри, за столом, покрытым несвежей скатертью, сидели пан доктор Штрасс, пан Огренцуг и пан учитель Кац с чашками суррогатного кофе, все небритые, молчаливые. Просто сидели, не разговаривая, не двигаясь, над этим грязноватым кофе, глядя в пустоту перед собой. Они казались ветхими, изношенными, очень старыми.
Я быстро убрал голову от окна, и от моего блаженного настроения ничего не осталось, а когда я увидел, что навстречу идет взвод коричневых здоровых немецких солдат, поющих что-то вроде «Lebe wohl, Erika»,[5] я поспешил свернуть в боковую улочку, чтобы не смотреть на них, потому что ощутил в себе какой-то непонятный стыд.
Потом я однажды видел пана доктора Штрасса одного. С саксофоном в руке я спешил проходным двором на Еврейскую улицу и столкнулся с паном доктором. Я поздоровался с ним и растерянно остановился. Пан доктор бесстрастно и как-то стыдливо улыбнулся и спросил:
– Как ваша жизнь?
– Хорошо, – ответил я и тут же устыдился своего «хорошо», хотя это было правдой, а лицо мое вспыхнуло краской оттого, что он обратился ко мне на «вы»; когда мы беседовали в последний раз, он еще мне тыкал, но я учился тогда в третьем классе. Мы молчали, и я не знал, что говорить.
– Что это у вас? – спросил пан доктор, указывая на длинный футляр в моей руке.
– Саксофон, – ответил я. Пан доктор удивленно переспросил:
– Саксофон? Но ведь… – Он прервал себя. Мне показалось, даже покраснел, но мое лицо снова вспыхнуло, потому что я понял его паузу. Ему казалось, что он уже не имеет права интересоваться моим здоровьем и говорить о вредности саксофона для моих бронхов: теперь это уже мое собственное, арийское, дело, а он всего лишь еврей. И как-то так, сам не знаю, мы распрощались, однако я чувствовал, что он хотел сказать, и сознавал: рано или поздно от саксофона придется отказаться – мои бронхи не выдержат.
То был последний диагноз пана доктора Штрасса в нашем местечке.
Потом я узнал, что в Терезине его повесили. Ни за что. Просто не поздоровался с каким-то эсэсовцем. У него всегда был слабый голос, и я слышу его до сих пор, когда уже те сильные, здоровые, воинственные голоса исчезли в презрении времени.
Но этого он тогда, в субботу утром, еще не знал. Он не проводил ее даже к двери, она пошла одна. Только его жена проводила ее, но всего лишь до угла на улице. Дальше – боялась.
– У меня ведь на пальто была желтая звезда, и было мне пятнадцать лет, – рассказывала Ребекка. – Нет – четырнадцать лет и три месяца. До Выставки от нас было всего пять минут. Даже меньше. И я знала, что меня там убьют. Пусть не именно там, но стоит мне туда прийти, как все будет кончено. Я шла, стараясь растянуть эти последние пять минут, чтобы они длились как можно дольше. Это как с операцией, на которую тебя везут, только гораздо хуже. Но когда тебя везут на операцию, ты можешь себе представить, как тебя будут везти назад – и все кончится. Здесь же – нет. Я знала, что, когда все кончится, я стану мертвой еврейкой. Разве что зубы золотые не вырвут, потому что у меня их нет. Но я еще не знала тогда, что они вырывают у мертвых золотые зубы. Тогда еще не знала.
Она шла, чтобы сделать дорогу длиннее, вокруг скобяной лавки, где выставлены на продажу терки и скалки, вещи, которые людям будут еще нужны – людям, но не ей. Рядом – кондитерская с тощими военными пирожными. С другой стороны – ремонтная мастерская; вывеска над входом гласила, что мастер проводит на дому установку сантехники и прочие монтажные работы. В свои пятнадцать лет она уже чувствовала горькую иронию от того, что «Ант. Шинтак проводит на дому различные установочные работы». Зачем все это, если ты, Ант. Шинтак, все равно умрешь?
– Я иду, – рассказывала она, – и вдруг вижу перед собой Андулю Малинову, девочку, с которой училась в школе. Бежит сломя голову, в одной руке зонтик, в другой «Кинообозрение». На свидание, конечно. А я – в концлагерь. И знаешь, Дэнни, мне вдруг стукнуло – почему я? Ну почему я? Почему не Андуля Малинова? Хотелось повернуться и тоже идти. Не на свидание – домой. В эту нашу вонючую, угрюмую квартиру, где батя потеет со страху. Только не туда. Но это лишь мелькнуло в голове. Я знала, что мне нужно идти в концлагерь, а Андуля Малинова может идти на свидание; я должна идти в концлагерь, а она нет, потому что так на свете устроено, всегда: одному – свидание, другому – концлагерь. И я тащилась дальше и перед собой видела дядю Огренштейна в лучшем своем костюме, в коверкотовом пальто…
И она видела их всех – как они тянулись с разных сторон к тем воротам, словно беззащитные изгнанники; к Выставке, где символами скотобойни стояли два огромных эсэсовца, что-то жевали своими мощными челюстями и смотрели на них, покорных, сгорбленных, припрятавших и распихавших свое имущество по арийским семействам; как они идут в воскресной одежде, с ранцами, чемоданами и узлами, тянутся к этим воротам, и некоторые вежливо, по привычке, или со страху, или с надеждой кланяются этим эсэсовским зверям в воротах…
Пан учитель Кац
Когда я ходил в третий класс, родители решили дополнительно учить меня немецкому, ибо в гимназии он начинался только с четвертого. Так они всегда делали. Во втором классе меня на год раньше отправили на латынь, в четвертом – на французский, хотя в то время я хотел заниматься английским. Так что французским я не занимался, а купил себе учебники и тайком от всех самостоятельно изучал английский.
На немецкий меня отдали пану учителю Кацу, который жил на Еврейской улице, в доме, где раньше была еврейская школа; он был учителем еврейского богослужения и кантором в синагоге. Маленький, совершенно лысый, он умел красиво петь и играл на скрипке и фисгармонии. Брал он восемь крон за час урока, и это было меньше, чем у других.
Я очень боялся, когда в первый раз шел на урок и звонил у застекленной деревянной перегородки на втором этаже еврейской школы, где раньше был класс, а теперь эта перегородка делила его на две прихожих: одна вела в молитвенную, другая – в квартиру кантора. Я боялся, но пан учитель Кац оказался добрым и приветливым – повел меня на кухню, где у печки на табуретке сидела его толстая жена в домашнем халате, усадил за кухонный стол и открыл передо мной новенький учебник немецкого, захрустевший в корешке; на первой странице был черно-белый рисунок чего-то круглого и грязного – это оказалось яйцом. Пан учитель приятным голосом сказал, что яйцо по-немецки называется «ай», и так я начал учить немецкий с самого начала, от яйца.
– Das ist ein Ei, – говорил пан учитель, и я за ним повторял. – Ist das ein Ei? – спрашивал пан учитель и сразу же сам отвечал: – Ja, das ist ein Ei. – И я снова за ним повторял.
Пан учитель Кац учил не только немецкому языку, но и богослужению, которое требовало знания еврейского языка. Поэтому еврейские дети ходили к нему сначала на уроки иврита. Когда еврей молится, его голова должна быть покрытой. Поэтому, когда мне случалось прийти на свой урок чуть раньше, я заставал здесь Йонаша Левита и Ицика Кона, которые очень громко читали вслух таинственные слова на еврейском языке, а на головах у них были шляпы пана учителя Каца, одна каждодневная, другая – для шабеса, и головы учеников утопали в них вместе с ушами; стояла летняя жара, и они приходили на урок без головных уборов, поэтому пану учителю приходилось надевать на них свои шляпы. Мальчики сидели на стульях выпрямившись и смотрели на меня с высокомерным презрением, ибо говорили на языке, которого я не понимал, и выкрикивали «лубалим селах шме ашбоазим» или что-то вроде, но пан учитель все время их прерывал и поправлял, ведь они тоже не очень были сильны в языке, но я, конечно, его вообще не знал, так что они свободно могли надо мной смеяться.