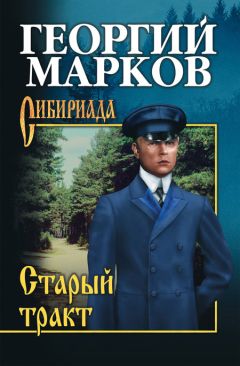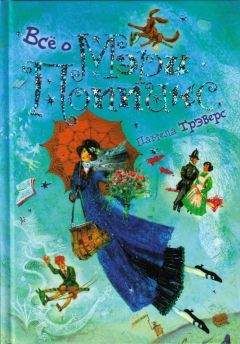Халед Хоссейни - Бегущий за ветром
— Ничего нет презреннее воровства, Амир, — сказал Баба. — Тот, кто берет чужое, даже под угрозой жизни или ради куска хлеба… Плюю на такого человека. И не приведи Господь, чтобы наши пути сошлись. Понимаешь меня?
Мысль о том, что сделал бы Баба с вором, попадись преступник ему в руки, восхитила и испугала меня.
— Да, Баба.
— Если где-то там есть Бог, у него наверняка найдутся дела поважнее, чем следить за мной: а вдруг я пью виски и закусываю свининой? А теперь слезай. Что-то у меня жажда разыгралась от всех этих разговоров про грех.
И он подошел в бару и налил себе еще стаканчик.
И когда теперь придет черед следующей задушевной беседы? Я всегда чувствовал нелюбовь со стороны Бабы. Это ведь из-за меня умерла его обожаемая жена. И если бы я хоть чуточку походил на него характером! Но я был совсем другой. И со временем эта разница только углублялась.
В школе мы частенько играли в «шержанд-жи», «битву стихов». Учитель фарси ввел свои правила, и все проходило примерно так: ты произносил несколько строк, а твой противник должен был ответить тебе стихом, начинающимся с той же буквы, которой заканчивалась твоя цитата. Все хотели играть в одной команде со мной, ведь к одиннадцати годам я знал наизусть десятки стихов Омара Хайяма, Хафиза, Руми.[9] Однажды я бросил вызов всему классу и выиграл. Когда я радостно рассказал о своей победе Бабе, тот только пожал плечами и буркнул: «Молодец».
Утешение я находил в книгах покойной матери и в играх с Хасаном. Я глотал все подряд: Руми, Хафиз, Саади,[10] Виктор Гюго, Жюль Верн, Марк Твен, Ян Флеминг. Перечитав все тома из матушкиной библиотеки — кроме трудов по истории, они казались мне скучными, поэмы и романы другое дело, — я стал тратить свои карманные деньги на книги. Часть матушкиных книг лежала в картонных коробках — там нашлось место и для моих приобретений из книжной лавки у «Кино-парка».
Быть мужем любительницы поэзии — это одно, но быть отцом мальчишки, который только и сидит, уткнув нос в книгу… нет, не таким Баба представлял себе своего сына. Настоящие мужчины не увлекаются поэзией и уж тем более не сочиняют стихов, Боже сохрани! Настоящие мужчины — когда они еще мальчишки — играют в футбол, вот как Баба в юности. Футбол и сейчас оставался его страстью. Когда в 1970 году проходил чемпионат мира, Баба приостановил строительные работы и на месяц укатил в Тегеран смотреть матчи по телевизору. Своего-то телевидения в Афганистане тогда еще не было. В надежде разбудить во мне вкус к игре Баба записывал меня в различные футбольные команды. Только в игре на меня было жалко смотреть. На своих ножках-спичках я бессмысленно метался по полю, путался под ногами, орал: «Я свободен», отчаянно махал рукой, но никогда не получал пас. И чем больше я старался, тем меньше на меня обращали внимание товарищи по команде.
Но Баба не сдавался. Когда стало окончательно ясно, что ни крупицы его силы и ловкости я не унаследовал, отец решил сделать из меня ярого болельщика. Уж на это-то я сгожусь, ничего сложного тут нет. И я притворялся как мог — радовался вместе с ним, когда кабульцы забили кандагарцам, и вопил «судью на мыло», когда в наши ворота назначили пенальти. Однако Баба чувствовал, что интерес мой — деланный, и в конце концов смирился с тем, что ни игрока, ни настоящего болельщика из его сына не получится.
Помню, однажды Баба взял меня на ежегодный турнир по бозкаши (козлодранию), который всегда проходит в первый день весны, первый день нового года. Бозкаши — национальная страсть афганцев. Чапандаз — мастер-наездник, которому покровительствуют богатые спонсоры, — выхватывает из гущи схватки тушу козла и пускается вскачь вокруг стадиона, чтобы вбросить козла в специальный круг, а все прочие участники всячески стараются ему помешать: толкают, цепляются за тушу, хлещут всадника кнутом, бьют кулаками. Их цель — добиться, чтобы он выронил козла. Толпа вопила, в толкотне и пылище воинственно визжали всадники, под копытами дрожала земля. Мы сидели на самом верху стадиона, а под нами летели по кругу состязающиеся, и пена обильно срывалась с лошадиных морд и шлепалась на землю.
Тут Баба указал мне на кого-то на трибуне:
— Амир, видишь вон того человека, со всех сторон окруженного людьми?
— Да.
— Это Генри Киссинджер.
— Ах, вот это кто.
Я понятия не имел, кто такой Генри Киссинджер, и собирался спросить. Но в этот момент, к моему несказанному ужасу, чапандаз свалился с седла прямо под лошадиные копыта. Под ударами тело его закувыркалось в воздухе словно тряпичная кукла, упало на землю (соперники проскакали дальше), дернулось и застыло. Руки-ноги несчастного были неестественно выгнуты, песок потемнел от крови.
Я зарыдал.
Всю дорогу домой я проплакал. Помню, как Баба вцепился в руль, и пальцы его то сжимались, то разжимались. Никогда не забуду отвращения на его лице, которое он не смог скрыть. Как ни старался.
Позже, ближе к вечеру, я проходил мимо кабинета отца и услышал голоса. Отец беседовал о чем-то с Рахим-ханом.
Я приложил ухо к закрытой двери.
— …Слава богу, у него все в порядке со здоровьем, — сказал Рахим-хан.
— Конечно. Но он вечно сидит уткнувшись в книгу или с мечтательным видом слоняется по дому.
— И что же?
— Я был не такой. — Слова Бабы прозвучали мрачно и зло.
Рахим-хан рассмеялся:
— Дети — не книжки-раскраски. Их не выкрасишь в любимый цвет.
— Говорю же тебе, я был совсем другой. И дети, среди которых я рос, были не такие.
— Знаешь, ты такой эгоцентрик иногда, — произнес Рахим-хан. Из числа наших знакомых он был единственный, кто мог позволить себе сказать Бабе такое.
— Это здесь ни при чем.
— Да неужто?
— Да.
— В чем же тогда дело?
Диван под Бабой заскрипел. Я закрыл глаза и еще теснее прижал ухо к двери.
— Иногда я гляжу в окно, как он играет на улице с соседскими детьми. Они командуют им, отнимают игрушки, толкают, пинают. А он никогда не даст сдачи.
— Он просто мягкий человек.
— Я не об этом, Рахим, ты прекрасно знаешь, — рявкнул Баба. — В этом мальчике как будто чего-то нет.
— В нем нет низких побуждений.
— Самозащита — не низость. Знаешь, что всегда происходит, когда соседские мальчишки задразнивают его? Появляется Хасан и прогоняет их. Я это видел собственными глазами. А когда я его дома спрашиваю, почему у Хасана лицо поцарапано, Амир отвечает: «Упал». Рахим, в нем точно нет чего-то важного.
— Позволь уж ему определиться самому.
— И где он окажется? — спросил Баба. — Из мальчика, который не может постоять за себя, вырастет мужчина, на которого нельзя будет положиться ни в чем.