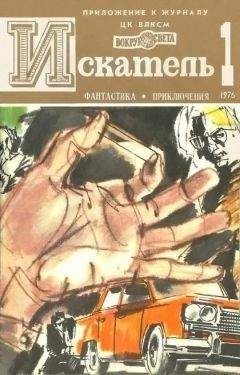Аркадий Вайнер - Евангелие от Палача
Одному. Без всяких там поглаживаний и закидывания горячих мясистых ляжек.
Но как я попал сюда?
Я задыхался от пронзительно-пошлого запаха «Кармен», он сгущался вокруг меня, матерел, уплотнялся, переходил в едкую черно-желтую смолу, которая быстро затвердевала, каменела. Пока не стала твердью. Дном бездонной шахты времени, на котором я лежал скорчившись, прижатый огненной бульонкой одноглазого штукатура. Запах «Кармен» что-то стронул в моем спящем мозгу, своей невыносимой остротой и пакостностью нажал какую-то кнопку памяти и вернул меня на двадцать пять лет назад.
* * *Оторвался от дна и поплыл вверх — навстречу сегодня.
Вот разжидилась вонь «Кармен», проредела, и я вплыл в высокомерно-наглый смрад «Красной Москвы». Он набирал силу и ярость, пока я, теряя сознание, проплыл через фортиссимо его невыносимого благовония, и понесло на меня душком почти забытым — застенчиво-острым и пронзительно-тонким, словно голоса любимых певиц Пахана — Лядовой и Пантелеевой. Это текли мимо меня, не смешиваясь, «Серебристый ландыш» и «Пиковая дама».
Я плыл через время, я догонял сегодня. Пробирался через геологический срез пластов запахов моей жизни — запахов всех спавших со мною баб.
Сладострастная тягота арабских духов. Половая эссенция, выжимка из семенников. Эрзац собачьих визиток на заборах. Амбре еще не удовлетворенной похоти.
Забрезжил свет: стало понемногу наносить духом «Шанель» и «Диориссимо».
Я вплывал в сегодня, точнее — во вчера. Женщины, с которыми я был вчера, пахли французскими духами.
Это запах моего «нынче», это запах моих шлюх. Моих хоть и дорогих, но любимых девушек.
Я вспомнил, что было вчера. Вспомнил и испугался.
Вчера меня приговорили к смерти.
Чепуха какая! Дурацкое наваждение. Я презираю мистику. Я материалист.
Не по партийному сознанию, а по жизненному ощущению.
К сожалению, смерть — это самая грубая реальность в нашем материальном мире. Вся наша жизнь до этой грани — мистика.
* * *Неплохо подумать обо всем этом, лежа в душной комнатенке прижатым к пружинному матрасу наливной ляжкой девушки-штукатура, имени которой я не знаю.
А кем назвался тот — вчерашний, противный и страшный? Как он сказал о себе?
— …Я — истопник котельной третьей эксплуатационной конторы Ада…
Неумная, нелепая шутка. Жалобная месть за долгие унижения, которым я его подвергал в течение бесконечного разгульного вечера.
Истопник котельной. Может быть, эта штукатур — из той же конторы? Какие стены штукатуришь? На чем раствор замешиваешь?
Я столкнул с себя разогретую в адской котельной ляжку и пополз из кровати. Человек выбирается из болотного бочага на краешек тверди. Надо встать, найти в этой гнусной темноте и вонище свою одежду.
Беззащитность голого. Дрожь холода и отвращения. Как мы боимся темноты и наготы! Истопники из страшной котельной хватают нас голыми во мраке.
Он подсел к нам в разгар гулянки в ресторане Дома кино.
В темноте я нашарил брюки, носки, рубаху. Лягушачий холод кожаного пиджака, валявшегося на полу. Сладострастное сопение штукатура. Не могу найти кальсоны и галстук. Беспробудно дрыхнет моя одноглазая подруга, мой похотливый толстоногий циклон. Не найти без нее кальсон и галстука.
Черт с ними. Хотя галстука жалко: французский, модный, узкий, почти ненадеванный. А из-за кальсон предстоит побоище с любимой женой Мариной.
Если Истопника вчера не было, если он — всплеск сумасшедшей пьяной фантазии, тогда эти потери как-нибудь переживем.
Если Истопник вчера приходил, мне все это — кальсоны, галстук — уже не нужно.
* * *Ненавидя себя и мир, жалкуя горько о безвозвратно потерянных галстуке и кальсонах, я замкнул микрокосм и макрокосм своим отвращением и страхом.
Кримпленовые брюки на голое тело неприятно холодили, усугубляли ощущение незащищенности и бесштанности.
Не хватало еще потерять ондатровую шапку. Мало того, что стоит она теперь втридорога, пойди еще достань ее. Мне без ондатры никак нельзя.
Генералам и полковникам полагается каракулевая папаха, а нам — ныне штатским — ондатровая ушанка. Это наша форма. Партпапаха. Госпапаха.
Папаха. Папахен. Пахан.
Великий Пахан, с чего это ты сегодня ночью явился ко мне? Или это я к тебе пришел на свидание?
Меня привел к тебе проклятый Истопник. Откуда ты взялся, работник дьявола!
Третья эксплуатационная контора.
* * *Давным-давно когда я служил еще в своем невидимом и вездесущем ведомстве, мы называли его промеж себя скромно и горделиво — КОНТОРА.
Контора. Но она была одна-единственная. Никакой третьей, седьмой или девятой быть не могло.
Вот она валяется, ондатра, дорогая моя — сто четыре сертификатных чека, — крыса мускусная моя, ненаглядная. Завезенная к нам невесть когда из Америки.
Почему я в жизни не видел американца в ондатровой шапке?
Дубленка покрыта шершавой коростой. Вонь. Засохшая в духоте блевотина.
Мерзость.
* * *Пора уходить, выбираться из логова спящего штукатура. Но остался еще неясный вопрос. Как мы с ней вчера сговорились — за деньги или за любовь?
Если за деньги — отдал или обещал потом?
Не помню. Да, впрочем, и не важно: пороки не следует поощрять. С нее хватит и удовольствия от меня. Как говорит еврейский жулик Франкис: «Нечего заниматься ыз просцытуцыя». Особенно обидно, если я вчера уже отдал ей деньги. Нельзя быть фраером. Это стыдно. Просто глупо. Не нужны ей деньги — она еще молодая, здоровая, пусть зарабатывает штукатурством, а не развратом.
Бросил на стол пачку жевательной резинки «Эдамс» и — на выход.
На коридорной двери толстая цепочка и три замка. Врезной и два накладных. От кого стережетесь? Не пойдут воры вашу нищету красть. А тем, кого боитесь, замки ваши не помеха.
Ломая потихоньку ригель у последнего, особенно злостного замка, я придумал нехитрую шутку: богатые любят зáмки, а бедные — замки´.
Жалобно хрустнула пружина убогого запора, я распахнул дверь на лестницу, и плотный клуб вони в легких, который там, в комнатушке девушки-штукатура, считался воздухом, выволок, вышвырнул, вознес меня на улицу.
* * *Им даже воздуха нормального не полагается. И это, наверное, правильно.
Мир маленький. Всего в нем мало.
Хорошо бы понять, где я нахожусь. На моей «Омеге» почему-то осталась одна стрелка, уткнувшаяся между шестеркой и семеркой. Долго смотрел под фонарем на странный циферблат-инвалид, пока не появилась вторая стрелка. Она медленно, застенчиво выползала из-под первой. Сука. Они совокуплялись. Они плодили секунды. Они это делали на моей руке, как насекомые.