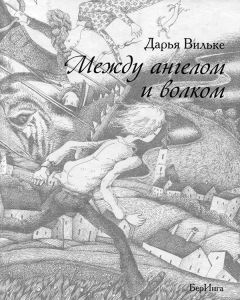Виктория Беломлинская - Де факто
Я привез из армии еще несколько рассказов, и они принесли мне почти настоящую славу. Среди них — «Барракуда» — рассказ о маленькой косоглазой эротоманке, откликавшейся на придуманное кем–то прозвище «Барракуда». Она приходила из поселка в казармы, влекомая ненасытной страстью к солдатским потехам, и с радостью неутоленного материнства превращала восемнадцати летних юнцов в мужчин. Ей просто вменялось это в обязанность. Но тут был свой подвох: ее и застенчиво осклабившегося девственника заводили в котельную, провожая всем скопом, а сами тотчас, налегая друг на друга, похабничая, безобразно возбуждаясь, облепляли маленькие, низко расположенные, не раз обрызганные окна. Я сам побывал там, в кочегарке и лип к окну тоже.
Вот с этих рассказов все и началось. Я не мог не написать их, но с них началась та самая болезнь зрения, что превратила меня в литературного выродка. О чем бы я ни писал потом, я все видел с какой–то не той точки, не тем оказывался мой угол зрения, сам миг возникновения и отсчета не таков. Но стоит мне попытаться что–то изменить в своей позиции, и я слепну, не вижу ничего. Так я оказался с теми, кто, с одной стороны, отстаивают свое право быть свободными от навязываемых обществом трафаретов, с другой — чувствуют себя обделенными благами, которые это общество так или иначе распределяет. То есть мы всегда делаем вид, что все, что мы отстаиваем, — это право печататься. Но печататься — значит пользоваться бумагой, типографией, всем издательским аппаратом. К тому же, многое стоит за этой насущной писательской потребностью: и жажда славы, и обыкновенное желание материального вознаграждения своего труда. Кое–что мы скрываем сами от себя. Это особенно заметно в клубе.
Создания этого клуба мы добивались долго и упорно. Даже с некоторым риском. Мы писали письма, собирали подписи, в конце концов нам дали помещение и приставили референта. Иными словами, мы сами переписали себя, выявили и сделали поднадзорными.
Внешне в клубе царит атмосфера братства и ничем неограниченного утоления потребности общения. Оргкомитет и правление клуба (меня, кстати, единогласно выбрали в правление) — так вот, мы решаем, будет ли наш следующий вечер вечером прозы или поэзии, посвятим ли мы его памяти погибшего от наркомании друга–поэта или авангардной музыке.
У нас есть свои литературоведы. Это самые образованные из нас люди. Они запускают в оборот терминологию, которой мы потом все щеголяем. Кто например, из простых смертных знает, что такое «поэты–гермитисты»? Кто не содрогнется от восторга, узнав, что мы занимаемся «гальванизацией трупа современной литературы»? Кто ответит на вопрос о том, кто был отцом современного «хелинуктизма»? Что такое «апофатический» путь в поэзии? Могу сообщить: оказывается, представителем «апофатического» пути в поэзии был Тютчев. Так он и умер, не подозревая об этом.
Литературоведы предваряют выступления наших прозаиков и поэтов. Они придают особый блеск нашим вечерам. Они привлекают большое стечение публики. Гостям полагается бросать в банку мелочь — «на гардероб». Пропускают не всех, только отрекомендованных одним из членов клуба. Например, какая–нибудь девица, вместо того, чтобы сказать, кто ее пригласил, кокетливо представляется: «Я Алиса Бершанская!» — на что стоящий на входе поэт, сизошеий, в седых патлах молодой человек решительно преграждает ей путь: «А по мне, хоть Венера Милосская!»
Но человек внушительной внешности проходит сам по себе — это объясняется тайным, подсознательным ожиданием Мессии: вдруг это как раз кто–то, кто выделит тебя из общей толпы и сделает твою судьбу. Тайно этого здесь ждет каждый. Явно это проявляется при распределении мельчайших благ. Вопрос в том, кому читать, в какой определенности, — болезненный вопрос, при его обсуждении мгновенно возникают обиды и склоки. Он сам собой превращается в созидание некой лестницы, на которой каждый хочет занять место ступенькой повыше.
Но эта наша кухня. Гостям ее не видно. Взгляду гостя предстает картина, бередящая душу жалостью, сочувствием и благодарным восторгом. Вот он, зал, наполненный бескорыстными, страдающими авитаминозом от плохого питания и недостатка любви, плохо одетыми, плохо умытыми людьми, каждый из которых безусловно талантлив, носитель и хранитель той особенной духовности, изголодавшись по которой, к нам идут люди.
Между тем, чем чаще я хожу в наш клуб, становится все муторней на душе. В ней все активнее шевелится подозрение, что что–то в моей жизни происходит не так, как надо бы. Я отметаю всякий упрек в том, что подобно многим, не работаю за ломаный грош кочегаром или лифтером. Ни даже сторожем на автостоянке. Никто из этих бородатых кочегаров и лифтеров не открыл для меня мир своей родной кочегарки. Да есть ли там, что открывать? Но каждый старается ей, кочегарке, открыть свой мир, вычурный, замысловатый, а она не приемлет, остается равнодушной, нанося неумолимый ущерб и без того мучимой одиночеством душе.
Герка, надо сказать, радостно согласился бы со мной, только откройся я ему, но вот это–то, его согласие, мне не нужно. Я не открою ему своей тревоги. Она родилась как- то исподволь, зашевелилась, зреет, крепнет во мне, ужасом наполняет мои утренние сны, по пробуждении толкает начать какую–то новую жизнь, куда–то идти, что–то. увидеть, чем–то напоить свою душу. Но пути Господни поистине неисповедимы! Ты хотел проснуться спозаранку, увидеть город в лучах едва восходящего солнца? Но кажется, изо дня в день засыпая в третьем часу ночи, ты не находил в себе сил для подобного эксперимента. Однако же вот: часы на Петропавловке едва показали семь, а ты идешь по Кировскому мосту, на сердце у тебя почти легко, а главное — загадочно…
Замечательная история произошла со мной этой ночью. Весь день накануне я провел в одиночестве, мучимый каким–то всепоглощающим бесплодием. В соединении с чувством голода оно сводило меня с ума — опустошение во всех смыслах, крах, банкротство полное.
В ожидании прихода с работы Герки я немного подиктовал. Последнее время эти мысли вслух — единственное, что я записываю. Голова кружилась от голода, я совсем было решился поклянчить какой–нибудь жратвы у добрейшей Юлии Цезаревны. Ничего нет, казалось бы, сложного в том, что ты выходишь в коридор, стучишь в соседнюю дверь и вежливым голосом говоришь: «Юлия Цезаревна, я приболел, хотел бы не выходить сегодня на улицу. Нет ли у вас хлеба?» Но дело в том, что наши милейшие соседи — и она и ее совсем ветхий старичок — оглохли окончательно. Это, правда, придает особую прелесть нашей квартире: мы с Геркой живем в ней, совершенно не смущаясь ни поздними звонками, ни полуночными гостями. Старики не слышат шума. Но точно также они не услышат и стука в дверь — надо попросту вломиться к ним и не сказать слабым от недомогания голосом, а проорать во всю мощь легких: «Хлеба нет? Дайте хлебца! Я приболел!» Она, может, и догадается, что мне нужно, и тут же даст и хлеба, и колбасы, и чаю, но почему–то я не могу себя заставить выйти и начать орать в коридоре погруженной в безмолвие квартиры. Вместо этого я иду на кухню, прямо к плите, на которой стоит кастрюлька с супом Юлии Цезаревны, беру со своего стола ложку и лезу в эту кастрюльку. Но тут как раз раздается причмокивание стариковских шлепанцев, и я трусливо бросаю крышку — это ничего, Юлия Цезаревна все равно не слышит, как та брякает о кастрюлю, но суп из ложки проливается, и соседская капуста повисает у меня на рубашке. Юлия Цезаревна смотрит прямо на нее и дребезжащим голоском спрашивает: «Юрочка, я вам налью супчику?» Я с глупейшей улыбкой на лице заправляю капусту в рот, прикладываю руку к пятну на рубашке и говорю: «Не беспокойтесь, пожалуйста. Я сыт». Она, конечно, ничего не слышит, но как–то по–своему понимает и то, что я прикладываю руку к груди, и то, что я пячусь к дверям, и. наверное, думает, что я и в самом деле успел наесться из кастрюльки. Я слышу уже из коридора, как она огорченно приговаривает: «Не разогрел, холодное ж невкусно, надо ж разогреть было…»
В комнате я вижу в зеркале, как краска постепенно отливает от лица, усмешка смущения уходит из глаз, уступая место чуть ли не слезам. Господи! Ну почему я так жалок! Сволочь, Герка, куда он сегодня запропастился? Я же знаю, у него сегодня аванс, он должен был, он обязан прийти и накормить меня. Но вот он так ко мне относится: прекрасно знает, что только через два дня я получу что–нибудь от своих и, надо думать, нарочно пустился сегодня в свой ИТРовский загул, чтобы я тут сдох с голоду.
И я ухожу из дома. Мне больше ничего не остается. Я иду к Мишке Звягину, чего не хотел делать, что выше моих сил. Этот пышущий здоровьем работник станции подмеса, густо поросший кудрявой сально–черной растительностью, сверкающий в мир брызгами жгучих глаз, крутогрудый, мощный, шумный человек, сильно напоминающий Дюма–отца, не только внешне, но и плодовитостью во всех смыслах: у него растет четверо пацанов, и он ежемесячно изготавливает на своей станции подмеса по новой повести. Этот человек мне сегодня невыносим.