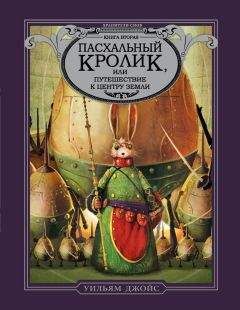Татьяна Ахтман - Пасхальный детектив
Давид поставил судьбу на избранника и самозабвенно отдался древнему лицедейству. Евреи в своём суровом историческом детстве не наигрались вволю, как их сверстники — греки, которые, пережив расцвет и закат, угомонились в своё время, передав груду сказок, кукол и игр возрождающимся для новой истории европейцам. А иудеи, выйдя на пенсию и оказавшись не у исторических дел, впали в детство, рядя себя самих в библейских героев. Дэвид идеально вписался в массовку шестидесятых: древняя сцена, освещённая тлеющим пеплом Катастрофы и восходящей звездой Нового Израиля, выглядела в прагматичной Америке ностальгически романтичной…
Отец Сары отнесся к её выбору скептически: иудейство было для него чем-то, вроде далёкой родни, о существовании которой помнят, но, скорее, с опасением, нежели с приятностью. У отца была стоматологическая клиника, он много работал и судил успех по кошельку, поэтому Дэвида — без затей определил в неудачники и, как всегда, подосадовал на жену, что не сумела вовремя присмотреть достойного парня. Сара была славной девочкой, и отцу нравилось её увлечение синагогой и вечеринками с зажиганием свечей в добропорядочной компании, которая выглядела особенно умиротворяюще среди бесчисленных хищных сект, пожирающих прошлое. После Второй Мировой войны, муки на Голгофе смиряли уже только тех, кто был смиренным сам по себе: глухих провинциалов, доживающих свой век на задворках собственной судьбы. Неспасённое христианство держалось на Ветхом Завете и великолепных формах Возрождения, но, сквозь усталую плоть веры, уже пробивались ростки благородного индивидуализма.
Отец Сары поставил жениху условие о твёрдом заработке, и Дэвид, окончив технические курсы и получив скромную должность в телефонной компании, женился. Дэвид был из тех, кто переживает свою жизнь фрагментами: не прорастая в ней всеми своими сущностями, а разделяя себя во времени используя и забывая. Так было прожито и забыто детство, затем богемная юность и наступило новое состояние, казалось, не связанное с прежними. Новый облик Дэвида и его новый образ жизни казались странностью, но, по сути своей — содержанию кода его личности — он был прежним статистом в собственной судьбе.
Саре казалось, что она выходит замуж за открытого и простодушного парня, не слишком серьёзного, но доброго и пылкого, и это было правдой, но поверхностной — не истиной. На самом деле Время Дэвида, отпущенное на то, чтобы прийти в себя, было на исходе, и он, не сумев стать в центр своей жизни, определился на её окраине. Чувство к Саре оживило одно из провинциальных обличий Дэвида — из тех, что толпились там. Новый образ Дэвида отличался от прежнего, как пёстрая бабочка от серой куколки, впрочем, метаморфозы человеческих форм определены не так чётко, как у насекомых. Дэвид принял своё новое рождение со всей страстью, отпущенной ему на зрелость: семья, священное писание, танец молитвы, чёрная шапочка-невидимка, дающая спасительную тень, служба с её живительными социальными соками. Превращение произошло стремительно, как наступление ночи в джунглях — Дэвид не заметил исчезновения прошлой жизни…
Не заметила и Сара — она была занята собой и, ничего не зная о человеческой природе, жила, прислушиваясь к внутренним голосам. То, что она там слышала, было простым, светлым и возникало привычным счастьем: родители, учёба, муж, дети, работа, достаток, дом — всё было улыбками её Бога доброго Хозяина, для которого она, как для любовных свиданий, зажигала свечи и одевалась в романтические платья, чувствуя себя избранницей. Где-то происходили ужасные вещи — чудовищные настолько, что не было сил принять их существование в общем жизненном пространстве, и Сара отделяла себя от Мира мистическим кругом света: зажигала субботние свечи и успокаивалась, чувствуя себя под защитой…
Рождение сына потрясло её в тот момент, когда в начале субботы, протянув руки к танцующему огоньку и заворожено глядя на него сквозь алую прозрачность пальцев, Сара не ощутила привычного покоя, который прежде разливался в эти минуты теплом в душе. Она прислушалась, как всегда, к себе — всё было как прежде, но как-то запустело — необитаемо, словно её душа была не на месте, а где-то там — за пределами освещённого круга, и эта разорванность ощутилась болью, как если бы была ранена плоть.
Метнулось под неподвижными руками пламя, в соседней комнате заплакал ребёнок, и Сара, прижав его к груди, почувствовала, что душа вернулась и согрела её нежностью, которой она прежде не знала, словно миг страдания обнажил в ней скрытую глубину, возникшую новым измерением. Сара запомнила это мгновение, но не одной из улыбок её Бога, а своим слбственым откорвением и бесконечно важным знанием, которым нельзя поделиться, как нельзя поделиться биением своего сердца… И как тогда, когда она бросилась к плачущему сыну в его комнату, покинув защищающий её круг, Сара стала всё смелее покидать пределы спасительной ясности, в которой обитали прежде её мысли, с тем, чтобы понять в каком мире будет жить её сын. Она пыталась поделиться своими открытиями с мужем, увлечь его за собой, но тщетно.
Дэвид обожал жену, сына и защищал свою страсть — от них… Сара и Ицик стали центром его мироздания, и вокруг них вертелись, притягиваясь и отталкиваясь, все обстоятельства его жизни. Он готов был отдать всё, только бы они были смыслом его жизни и подтверждением избранности… Возникали горькие минуты, когда, просыпаясь утром, Дэвид не хотел начинать унылый марафон. Липла мысль «зачем?», и если бы не мгновенная безусловность ответа: «Сара, Ицик», Дэвид не сумел бы спастись от тоски, что всегда подстерегала его там — в щемящей пустоте, куда он поместил — святынями — жену и ребёнка… Если они покинут это место, что станет с ним — что останется ему? И Дэвид замкнулся — закрыл душу в отчаянной решимости удержать там своё божество, отказываясь понимать то, что говорила ему Сара, теряя её… Расставания, как и встречи, подписываются на небесах, но люди, доверившиеся року, уже не могут прочесть. Дэвид и Сара прожили чужими десять лет, успев родить второго сына.
Оформляя развод и уходя с младшим сыном, Сара сказала: «Спасу хотя бы его» — восьмилетний Ицик остался с отцом. Дэвид к тому времени превратился в семейного тирана, мелочно третирующего домашних в соблюдении ритуальных подробностей, которые легко подавили его прежнее любопытство к природе, политике, искусству — всё стало враждебной суетой. Даже смены времён года виделись ему не цветениями и листопадами, но весенними и осенними священнодействиями, а рассветы и закаты — утренними и вечерними молитвами. Форма его жизни приобрела жёсткость кристалла, потеряв способность к перерождению.
Ицик ходил в школу, где учили только священное писание, и с каждым годом был всё тише. Отца он не выделял из общего фона жизни — его существование было порядком вещей, как водопровод или пакет со свежими булочками, приносимыми к завтраку. Исчезновение матери и редкие встречи украдкой, когда она возникала порывом нежности и аромата, долго было единственной интригой, обозначающей его жизнь. Однажды, на школьной перемене, он стоял в своём любимом месте — в конце коридора у окошка, и наблюдал знакомого паука, хлопотавшего над обессилевшей мушкой, и, вдруг, ясно представил свой чёрный костюмчик и светлые локоны, уже лишённые его Ицика — плоти, висящие на липких нитях рядом с чьими-то пыльными крылышками… Это видение стало преследовать его: книга, чудесные появления и исчезновения матери, пёстрые пятна и звуки чужого Города, отец, булочки, молитвы — всё было паутинками, на которых висело то, что было Ициком.
Встречи с матерью становились всё более редкими, а потом и вовсе прекратились, и Ицик забыл её, а годам к пятнадцати — и своё детское видение, которое сменилось мечтой об Иерусалиме. У него появилась цель, и юность была определена исходом из Америки, которая казалась ему ненавистным Египтом — единственным видом рабства, которое знал… Весной начала девяностых Ицик со своим отцом отправились к далёкой родне в Иерусалим праздновать песах…
Не привыкший к ярким впечатлениям, Ицик воспринял перелёт через океан в меру своих ощущений, рассчитанных не на восторги, а на недоверчивое приглядывание, соизмеримое с возможностями переживаний по мерке, выданной хозяином его жизни — отцом, и потому синий со взбитыми сливками океан и сверкающая на чёрном бархате Европа виделись ему пустыней, в которой миражом сверкал Иерусалим…
В аэропорту Ицик заметил только приметы своих грёз: нежное тепло воздуха, пальмы и евреев, одетых так же, как он — в чёрные костюмы и шляпы. Пёстрая толпа, похожая на ту, от которой он бежал из Нью-Йорка, ощутилась досадными помехами, от которых их с отцом увезло послушное такси — они вышли на маленькую, похожую на амфитеатр, площадь, из которой вырастал, поднимаясь к небу, Иерусалим… Белые камни устилали его стены, дороги, тротуары, ступени, ведущие к небесам, скамьи, на которых можно было отдохнуть в пути. Иерусалим обнял Ицика бережно, сильно и немного виновато — как мама, и он ощутил забытый запах и солёный вкус на губах, не поняв, что плачет… Они вошли в один из белых домов, где Ицик — верил — его ждали и любили, и где знали о нём всё, чего он не знал сам.