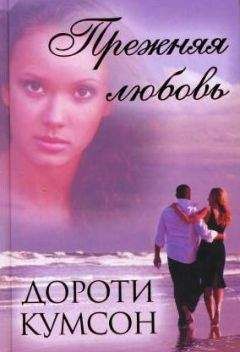Юрий Буйда - Город Палачей
Вот такой рассадкой и занялся Бох, потратившись на рекламу и повоевав с учеными психологами, которые подняли его на смех, обозвав кустарем и невеждой, не прочитавшим ни одной из тех книг, в которых "метод Шута Ньютона" давным-давно разобран по косточкам. Дмитрий Генрихович вскоре махнул рукой на обидчиков, потому что от клиентов не было отбоя. Оно и понятно: русские люди десятилетиями сидели где и как велят, а тут наступили времена, когда пришлось самим рассаживаться, и уже муж с женой не понимали, кто из них должен сидеть во главе стола - спивающийся глава семейства или торгующая мороженой рыбой, колготками, а иногда - и собой, жена, приносящая в дом деньги. К "шарлатану" Боху пошли люди, и он, памятуя главную заповедь палачей "лучше быть никем, чем ничем", давал советы, рассаживал и даже делал подарки. Одному бакинскому юноше из беженцев, страдавшему от невыносимого одиночества, он подарил маленькую и не очень удобную скамеечку, велев каждый вечер проводить на ней полчаса, глядя при этом в угол и ни на кого не обращая внимания. Сегодня Вагиф, владелец половины нефтяных скважин России, бережно хранит эту скамеечку в бронированном сейфе, а когда ему нужно принять особенно важное решение, усаживается на нее, глядя в угол и ни на кого не обращая внимания, после чего предпринимает шаги, повергающие конкурентов в шок. Известнейший политик без трех с половиной минут премьер - до сих пор благодарен Боху за то, что тот научил его писать ржавым гвоздем на стекле, чтобы унять горячку мыслей и выносить на суд публики только готовые формулы - всегда точные, ясные и сжатые.
Раз в неделю Бох и Цыпа, работавшие в разных местах, обязательно встречались на Пушкинской площади: ведь если Петербург - это Проспект, то Москва, несомненно, - Площадь, но только не бесчеловечная парадно-кладбищенская Красная, а бестолковая, но человеческая Пушкинская.
Да и куда пойти человеку, если ему некуда пойти? Сюда, на перекресток Тверской улицы и Страстного бульвара, в моросящую тьму площадного вечера, сгущающегося в медный памятник, к которому бессмысленно льнут тени и люди, где никому нет дела до твоих душевных тягот и физической недужной слабости, мелко бьющейся зябкой мокрой птицей в тесноте грудной клетки, слева, где сердце, тоскливая ноющая немощь которого не видна глазу, не слышна уху и невнятна другим сердцам, и потому боль, наполняющая грудь и горло толченым стеклом, стихает, отступая перед разливом всеобщего безразличия, никнет и постепенно растворяется в едва ощутимой осенней горечи алкоголя и палого листа...
Эта площадь напоминала ему Город Палачей - прежде всего, конечно, Трансформатором. Когда-то это был памятник Сталину. Бронзовый, разумеется. Когда приказали его убрать, народ в одну ночь переодел Генералиссимуса и немножко переделал. На голову насадили пушкинский цилиндр. Лицо украсили бакенбардами, усы спилили. В одну руку всунули тросточку. Шинель - с нею было больше всего мороки - к утру при помощи автогена все же превратили в крылатку. Голову отрезали и приварили под углом, чтобы смотрел не вдаль, а вниз, как у Опекушина, взирая одновременно как бы вдаль и как бы вниз, как на проносимого мимо покойника в открытом гробу. Только с сапогами ничего не успели сделать. Начальство глянуло, ахнуло, всплакнуло и рассмеялось. Махнули рукой: шут с ним, был Сталин - стал Пушкин. Прозвали его Трансформатором. Кто-то сказал: "Ну, а чем они отличаются? Сапоги и Пушкин носил, зато Сталин знал, что такое трансформатор. Вот и вся разница".
Дмитрий Генрихович всегда приходил на полчаса-час раньше условленного срока, чтобы в полном одиночестве избыть накопившиеся за неделю отчаяние, боль и грусть. Он устраивался на скамейке в тени, закуривал и замирал в тупом оцепенении, всякий раз вспоминая рассказанную Гаваной историю об их предке, бежавшем из Голландии 1569 года от Рождества Христа в будущее - на Русь 7077 года от сотворения мира, бежавшем, чтобы спасти от инквизиции свою крылатую красавицу-жену, жившую в клетке на жердочке, дочь ведьмы. Ради спасения любимой он выпустил из подвала своего дома крыс-людоедов, уничтоживших половину Голландии, - и иногда его потомку казалось, что он слышит вопль последнего брабантского звонаря, который, спасаясь от длиннохвостых чудовищ, взобрался по веревке набатного колокола на головокружительную высоту, где его тело и душу поделили ангелы и крысы, и тонкий звон из прошлого плыл над Москвой, над Пушкинской площадью, заглушая все голоса будущего...
Ему вспоминалось древнее пророчество Симеона Владимирского: "Не бысть казни, кая бы преминула нас". И чтобы отбить вкус древнерусской эсхатологии, он залпом выпивал фляжку коньяку, хотя помогало это плохо.
Едко-желтым и ядовито-розовым - ни львиного злата, ни бронзы коринфской - всеми оттенками расплавленной меди отливал шелестящий поток лаковых автомобилей, легко мчавшихся по влажному бликующему асфальту мимо памятника Пушкину в гоголевской шинели, который стоял с опущенными глазами, как над покойником, а может быть, - чтобы не отвлекаться на мельканье световых пятен на плавных капотах и крышах, на будках, бабах, балконах, львах на воротах, летящих по некогда белокаменной Царской улице, по Тверской дороге, по вечерней Тверской всея Руси, вращающейся вокруг медной пушкинской оси и пылающими струями, брызгами, каплями уносящейся в темную толщу чудовищного города, напряженно-жесткого в центре, у взгромоздившегося на холмы алого Кремля, замкнутого в укромном оплоте диких зубчатых стен и башен и разрыхляющегося и разжижающегося к окраинам, где среди жалких серых коробчонок с крошечными окошками, по плоские крыши утонувших в мусорных хрущевских джунглях, между бесконечными бурыми заводиками и фабричками, складами и свалками, на продуваемых ветрами и поливаемых тягостными осенними дождями просторах высились неестественно красивые многобашенные замки в окружении легких сияющих магазинчиков, аптек, баров - светлые приюты бесплотной жизни, которым позволили вчуже блистать и притягивать взоры, словно невесте-юнетке в самом начале свадьбы, пока хозяева и гости еще не довели себя до пьяного угрюмства и взрыва утробной злобы, на которых замешен всяк русский праздник, требующий разгула, загула, порванной на груди рубахи и надсада, требующий выхода надрывной ярости, невесть откуда подымающейся в человеческой душе и выплескивающейся на вся и всех, калеча, ломая и со зверским наслаждением давя самое красивое, самое дорогое, любимое, завершающейся воплем: "За что, Господи?" и самоуничижением, если не самоуничтожением, - сумасшедшим криком, зовущим темный безначальный русский ветер, который ведь может и откликнуться, и взрыкнуть, и взвыть, и захрипеть вдруг, и дохнуть люто и гибельно, и погнать пыль и палые листья, взметнуться и ринуться, ломая все на своем пути, не разбирая правых и виноватых, вскидывая на воздух хрупкие коробки и коробчонки домов, тыщами с хряском выворачивая деревья и затмевая электрический морок уюта, - точно пьяный дурак в курятнике, с уханьем долбящий дубиной пушистых цыплят, пока не останется на весь миллионный град Москов разве что медного Пушкина да хмурого Кремля, привычных к пожару и разору, трусу, гладу и мору, ибо не бысть казни, кая бы преминула нас, - не бысть...
Наконец появлялась Цыпа, и Бох вставал ей навстречу с непременным букетом алых роз в руках. Цыпа, безусловно, прекрасно знала, о чем он только что думал, и приветствовала мужа любимой фразой последнего капитана "Хайдарабада" Бориса Боха:
- Под лежачий камень еще успеем!
После чего брала его под руку, и они отправлялись считать шаги. Она в своих туфельках на стервознейших каблуках, а он - в своих символических ботинках. Они обходили Пушкинскую площадь по кругу, обсуждая планы на будущее, и когда на душе у Боха становилось легче, она вдруг останавливалась и говорила:
- Семь тысяч пятьсот.
- Семь тысяч пятьсот один, - возражал Бох, у которого всегда выходило на шаг больше, и эту ошибку Цыпа охотно ему прощала, потому что это был шаг вперед, именно то - без вкуса, цвета, запаха и даже без веса, что и отличает людей от зверей, а любовь от ненависти. На что Бох со смехом отвечал, что на самом деле это и есть мера их любви, в которой он всегда на шаг впереди. Понять эту логику даже сумасшедшая Цыпа Ценциппер была не в состоянии, поэтому она просто приподнималась на цыпочки и целовала Боха в его голубые, как у слепого кота, глаза.
Петром Иванович, Линда Мора и Миссис Писсис
Влача за собой шлейф пыли, бензиновой гари и мелких собачонок, уставших тявкать на это чудовище, лязгающий и то и дело хлопающий первой правой дверцей автомобиль с клыкастым бампером кое-как пересек площадь, из последних сил одолел мост и остановился на неровной брусчатой площади перед входом в Африку. Из него вывалился рослый усатый господин с близко утопленными глазами, облаченный в черный долгополый пиджак, суконную черную кепку с шелковой лентой на тулье и белые ботинки, в каждую трещинку которых въелась вековечная пыль, много раз замазанная белой краской.