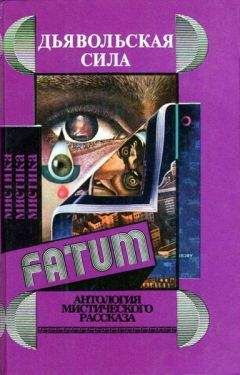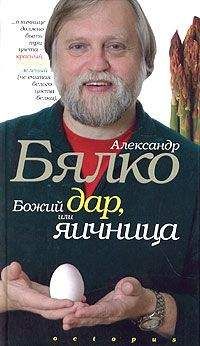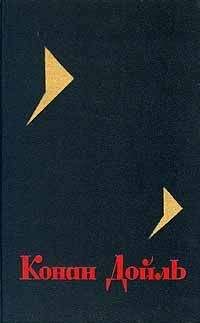Валерий Болтышев - Яичница из одного яйца
Он силой прекратил эту мысль и поднял лицо: ему показалось, что он хочет увидеть, откуда летит бьющий вниз снег.
В очках зазвенело, но вместо снега Фомин увидел над собой окно второго этажа. В окне, на подоконнике, стоял сосед-инвалид. Как-то арматурно распявшись там на костылях, он подавал в темноту сигналы, но приглядевшись еще, Фомин понял, что инвалид не подает сигналы, а душит котенка, которого держит на веревке за окном. Заметив Фомина, он перестал махать, дожидаясь, пока тот пройдет, и делая вид, будто осматривает оконную раму. Но Лев Николаевич уже отвел глаза.
Он уже глядел вперед, в прогал меж домов, где гнулся фонарь, и под фонарем, под снегом, на рыбацких ящиках сутулились шесть рыбаков. Они сидели плотным кружком, как будто ловили из одной лунки, и лишь самый правый, в милицейском тулупе, через погон косился на Фомина.
Безусловно, они могли ждать трамвай. А милиционер – иметь рыбацкий выходной. (А инвалид – ужасно родливую кошку.) И все же настороженный Лев Николаевич решил дойти только до угла, изобразив там, будто тоже интересуется трамваем, но затем, не достигая рыбаков, раздраженно вернуться – дескать, черт его дери, этот трамвай,– и как-нибудь проскочить через интернат.
План был прост и удался бы наверняка. Но, вышагнув за угол, Фомин буквально ткнулся в капот микроавтобуса.
"Скорая" ждала, притушив огни. Водитель, как положено в таких случаях, читал за рулем журнал "Здоровье", а над головой у него покачивалась рыбка, сплетенная из капельницы. Но рядом с рыбкой качался капроновый чулок, и по инерции поискав другой, Лев Николаевич увидел две женских ноги (одна была в чулке), раскоряченные большой "викторией". Ноги стояли в глубине салона, упершись в потолок. И потому, может быть, что салон был освещен тускло, а ноги стояли вертикально, а по лицу сек снег, Фомину почудилось вдруг, будто ноги, а также водитель, поверх журнала, и даже плетеная рыбка в ответ рассматривают его – совсем как скорчившийся за спиной милиционер.
– Чу-чу…– прошептал Фомин.
Как минимум половина этих подозрений была явной глупостью. Однако изображать ожидание трамвая теперь было глупостью вовсе. И Фомин – стараясь зачем-то ступать по собственным следам и косясь из-под громкогремящей шапки на подъезд, откуда в любую минуту мог вывалиться торговец калькуляторами – свернул во двор, где слышался визг, плеск воды и бряканье оцинкованных ведер.
Говоря оперативным языком, он был обложен со всех сторон. Но, как матерый волк под флажки, Лев Николаевич ринулся сквозь шеренги полудурков – выстроенные в два ряда, полудурки обливались по системе Иванова,– нырнул в интернатский сад и замелькал среди теней, ветвей и собачьих троп.
Какой-то определенной дороги Фомин не знал. Он держался только направления, понимая, что во всяком заборе должны быть дыры. И когда малоутоптанная тропа вынесла его на сплошной горбыль, Лев Николаевич не раздумывая раздвинул доски, как раздвигают занавески, просунул в проем шумную голову и огляделся по сторонам.
Место, куда он попал сквозь сад, называлось типографский хоздвор.
Как раз напротив высвечивались железные ворота. Они высвечивались прожектором, приваренным прямо к воротам и пялившимся в них в упор, сверху вниз. Справа вдоль пустой улицы мигал желтый светофор. Слева светился киоск. Все это посыпалось снегом и зияло безлюдием.
Исключение составлял киоск.
В этом краю типографии Лев Николаевич не был лет восемь, и сам по себе киоск его не удивил. Вообще как-то удивиться киоску он не мог в принципе, поскольку прежде этим не интересовался совсем и обходился знанием, что в киосках продают спиртное и сигареты "САМЕЦ" с самцом верблюда на картинке. И теперь, завидев киоск, он только обрадовался, получив возможность подобраться к типографии легально, в роли позднего алкаша. Удивление пришло чуть поздней.
Сперва он заметил одного. Еще издали, через дорогу, демонстрируя любопытство, Фомин различил за частоколом винных горлышек рыльце продавца. Рыльце походило на поплавок: круглое, оно было двухцветным, до бровей срезанное вязаной шапочкой. Кроме того, оно подергивалось вверх-вниз, так как жевало резинку. Фомин это понял, когда продавец выдавил из себя большой пузырь, стрельнул им и оставил висеть на губе, как презерватив.
И в то же мгновенье рядом с первым рыльцем выскочило еще два, и все трое уставились на Фомина.
В сущности, ничего страшного не случилось. Таких пузырей и таких шапок Лев Николаевич видел много, например, у полудурков по утрам. Смущало лишь то, что три рыльца двигали челюстями совершенно синхронно, на счет "раз-два". Вспомнив трюмо, Фомин уже готов был заподозрить рекламный трюк с системой зеркал, как вдруг правое рыльце что-то прошептало среднему, словно бы пожевав ему ухо, и оба чуть-чуть повисели неподвижно, а затем принялись жевать вразнобой, что в первый момент показалось даже странным.
Поэтому на скрип двери Фомин обернулся лишь тогда, когда в ноги ему упал свет.
На незаинтересованный взгляд – если б у кого-то здесь был незаинтересованный взгляд – происходило самое заурядное из дел: сторож хоздвора вышел из сторожки у ворот. На нем было бабье пальто, и против света он казался фигуристым. По-хозяйски распахнув дверь, он сыпанул вбок горсть яичной скорлупы, сердито, как всякий сторож, сунул в рот папиросу, прикурил, оглядывая прилегающую территорию, и, фукнув на спичку, стал спускаться с крыльца.
Все это была полная дрянь на незаинтересованный взгляд. Но Лев Николаевич почти с восторгом, боясь пропустить хоть единую из подробностей, следил за тем, как сторож в бабьем пальто, отодвинув полу и притоптавши снег, пристраивается к столбику у ворот – ибо каждое из этих неторопливых движений означало одно: абсолютный, тихий и славный покой во всей типографии, где не случилось и даже не могло случиться ровным счетом ни черта.
Он немножко вздрогнул, когда сторож, стоя у столбика, кивнул ему через плечо. Это было непонятно и походило на приглашение справить нужду на брудершафт. Но почти обрадованный Фомин ничего плохого уже не предполагал.
Он подошел и стал чуть позади.
– Вы меня? – спросил он.
Он желал дать взаймы, услышать анекдот и сказать, который час.
– Тебя! – проскрипел сторож.– Явился, гад? Руки вверх!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Самым глупым работником типографии был Иван Егорович Одинцов. Он служил инженером по гражданской обороне, но славу дурака и прозвище "Конь" он получил не за жеребячью живость в противогазе и не за конскую стать в президиуме, когда типография праздновала что-нибудь вроде Восьмого Марта. В сущности, ни при чем была и его страсть – подкрасться в обед к кучке шахматистов, схватить первую попавшуюся фигуру и, гаркнув "Лошадью ходи", шарахнуть ею по доске. Эту шутку за ним помнили четырнадцать лет и поэтому следили только за доской – чтоб не опрокинулась. Но, проорав свою "лошадь", Иван Егорович начинал одиноко хохотать, действительно делаясь похожим на коня, деревянного шахматного коня, с двумя полными рядами деревянных зубов. Досмеявшись до конца, он уходил в кабинет слушать "В рабочий полдень".
Выдоить что-то другое не получалось даже уговорами, и коллектив справедливо считал, что Конь не столько конь, сколько баран. О том, что существует шутка номер два, знал только один человек, главный бухгалтер Нектофомин, и страдал от этого по-настоящему.
Стоило типографии в надлежащую грязь выехать в подшефный колхоз, а типографскому автобусу – остановиться на берегу картофельного поля, как Иван Егорович брал Льва Николаевича за локоток и с озабоченным лицом отзывал в сторону. В стороне, в кустах, он сперва чем-то шебуршал впереди себя, а затем, вдруг развернувшись, вопил "Руки вверх!" и с хохотом хлестал струей, размахивая по сторонам и как бы целя Фомину в сапоги. Отступая и треща бересклетом, Лев Николаевич валился на спину.
Главный специалист, в конце концов, он вставал каждый раз с решением принять, в конце концов, меры. Вплоть, черт побери, до увольнения. Но мешали обстоятельства. Во-первых, Конь тоже считал себя руководством. А шутку – дружеской и мужской. А во-вторых – и это главней – Фомин не знал, как сформулировать, хотя бы для докладной, то, что происходило в кустах. Конь называл это "пассат" и бодро ржал.
– Пасса-ат!
Теперь он делал то же самое. Что было вполне естественно, поскольку поумнеть он никогда не обещал. И в то же время – совершенно невероятно, так как умер в 84-м году.
– Попался, гад!
По крайней мере Лев Николаевич четко помнил две подробности: чек на восемьдесят четыре рубля, за венок, и фанерный профиль носом вверх, посередине "красного уголка", на который тоже уголком – глаза – косился он сам, еще Нектофомин, с траурной повязкой на рукаве.
Может быть, это было как-то из сна. А еще вернее – дремотные картинки перед сном, что-то вроде размышлений вслух. Но уже уставший от белиберды, Фомин грубо, как тятя, поспешил закрыть тему мертвеца и просто сел в сугроб, загородившись ногой. Все, что следовало понимать теперь, было на виду: Конь был жив, работал сторожем и застегивал штаны.