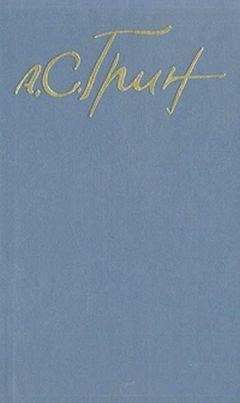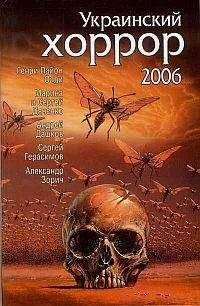Васко Пратолини - Виа деМагадзини
Я прожил в доме дяди еще довольно долго. На именины мне подарили коня-качалку и бархатный костюмчика на Новый год я получил дудку и барабан с палочками, у которых были красные головки, как у кеглей, а папа прислал мне настоящий маленький ксилофон. Бабушка принесла пару сапожек, которые кузины застегнули на мне при помощи шпилек. Потом Абе подарила мне букварь и терпеливо повторяла со мной: А-Е-И-О-У, а я стыдился, слыша слова дяди:
— Такой большой, а еще только гласные учит! Маму мне не суждено было больше увидеть; отец махал платком из трамвая, дедушка смотрел на меня светлыми глазами, а в кармане у него было полно засахаренных каштанов. Бабушка, которая все худела и чернела, сказала однажды:
— Тебе нужно вернуться домой. Абе скоро выходит замуж и не может больше с тобой возиться.
Какой печальной кажется городская квартира на четвертом этаже среди высоких домов семилетнему ребенку, который окреп на огородах и дамбах, на окраинной улице, открытой ветру и солнцу. С обновленной душой и новыми, самостоятельными мыслями, я глядел на улицу из окна своего дома. Балясины теперь были мне только по грудь, а впереди не расстилались далекие горизонты: наша улица сначала шла прямо, потом круто поворачивала как раз подо мной и дальше снова легонько изгибалась у выхода на площадь Синьории, так что ее нельзя было всю окинуть взглядом. Эта улица — виа де'Магадзини — была островком тишины среди гула, который угасал за ее пределами по ту сторону дома, стоявшего напротив. Мощенная булыжником, кривая, наша улица давно была забыта и экипажами и торопливыми прохожими. Лишь сапожник, расположившийся в одном из закоулков нашего дома, словно в камере-одиночке, нарушал тишину стуком своего молотка, но и этот стук повторялся с большими промежутками. В определенные часы суток на виа де'Магадзини, как в заброшенной деревушке, слышались одни и те же голоса и звуки. На заре появлялись дворники; в звонкой Тишине улицы их слова звучали четко, внятно; потом тарахтела тележка молочника и доносился его крик: «Молоко! Молоко!» По улице из конца в конец отдавались торопливые шаги женщин, бежавших по лестницам с бидонами, и шорох корзинок, которые другие хозяйки спускали из окон. В их числе была и бабушка, уже совсем одетая; накормив меня завтраком, она брала кошелку и уходила за покупками. Случалось, что после ее ухода я засыпал снова и просыпался от крика почтальона.
Мы были словно изолированы от внешнего мира и своем одиночестве, и при звуке шагов случайного прохожего, вспомнившего про нашу улицу, вздрагивали сердца ее обитателей.
Остальное время дня было размерено выкриками старьевщиков и продавцов лупина; вечером снова проходил почтальон, проезжал молочник; монотонно, с долгими промежутками, стучал молоток сапожника. Прижавшись к стеклу высокого окна, я считал, сколько ударов сделает он без перерыва: семь, десять, однажды даже пятнадцать. Казарма была пуста, окна закрыты; на фасаде, в тех местах, где отлетела коричневая штукатурка, темнели большие пятна сырости; внутри, на том участке пола, который был виден мне из окна, долго валялись обрывки газеты и котелок; однажды мне показалось, что по комнате быстро пробежала мышь.
Выпадали и скучные дождливые дни, когда капли стучали по мостовой устало, словно ударялись о мягкую стенку внутри дома. Капли повисали на электрических проводах, дрожа, набухали, как кедровые орешки, потом срывались вниз.
Бабушка долгие часы просиживала на нашем голубом диване за бесконечной штопкой. Ее бедные воспаленные глаза были всегда заплаканы. Пища, диван, моя и ее одежда, которую она с плачем чинила, буфет, кошелка для продуктов — все в доме было проникнуто ее безутешным горем.
Дедушку я видел мало; он возвращался поздно вечером, а утром уходил раньше дворников. Все мы втроем — дедушка, бабушка и я между ними — спали в алькове гостиной, как во время болезни мамы. Мамина комната пустовала, большая кровать была аккуратно застлана, одеяло заправлено под подушки — две белые подушки вышитыми на них мамиными инициалами. Теперь, когда я входил туда и видел знакомые вещи — воскового младенца Христа под стеклянным колпачком, прямоугольное зеркало, бронзовые ручки комода, олеографию Благовещения над изголовьем кровати, украшенную оливковой ветвью, голубой графин, красный коврик, мамин туалет, на котором еще стоял флакончик ее духов, лежали щетка и тонкий гибкий гребешок, словно сделанный из перламутра, — образ лежащей в постели мамы, какой и се знал, снова вставал перед моими глазами. Буква «Н» — «Нелла», — вышитая неуверенно, словно рукой ребенка, многое говорила моему сердцу: у меня было смутное ощущение, смешанное со страхом, что мама действительно явится мне в своей большой постели, лежа на боку, чтобы скрыть огромный живот, и позовет меня. Когда я оставался дома один, я не мог удержаться от искушения, чтобы не войти в ее комнату и не потрогать вещи; при этом я дрожал и то и дело быстро оборачивался, словно чувствовал за спиной чье-то дыханье, чье-то присутствие. Потом я отдергивал зеленые занавеси; моя кроватка по-прежнему стояла там, тюфяки были свернуты, сетка открыта. Стоял там и ящик с моими старыми игрушками.
Однажды мне захотелось посмотреть на эти игрушки, которые я теперь презирал, на деревянного Пиноккио, который дергал ручками, если нажмешь ему на грудь. Я с трудом отдернул занавеси, осветил альков и, став на колени перед ящиком, приподнял крышку.
Сверху аккуратной стопкой лежало белье, тонкое, благоухающее. Сняв первый ряд, я увидел женскую сорочку, белую, мягкую, с кружевами у ворота и с маленьким «Н», вышитым криво, словно рукой ребенка. Потом я нашел шелковые вещи, которые было так приятно гладить рукой; потом обнаружил ряд полотенец и простынь «камбри», -я знал, что так называется полотно. И по мере того как я вынимал белье, складывал его на пол, мне попалось много маленьких красных «Н», вышитых с изнанки. Потом я нашел яблоко — большое вялое яблоко, запахом которого было пропитано все белье. Добравшись до дна, я нашел две фотографии в картонных рамках. На одной я увидел девочку примерно моего возраста, в матроске с якорями на воротнике; густые черные волосы, разметавшиеся по плечам и спине, покрывала матросская шапочка, казавшаяся маленькой на пышных локонах девочки; на ленте берета я разобрал надпись: «Дуилио». Девочка смотрела хмуро, насупившись, вид у нее был решительный, тонкие линии носа и рта едва намечались на бледном лице, обрамленном волосами. Она стояла, положив левую руку на спинку пузатого кресла, а правую вытянула вдоль тела, прижав кулак к юбке.
— Мама, — проговорил я.
Я был один в доме, но теперь не чувствовал ни страха, ни робости.
— Нелла, — сказал я.
И внезапно, подобно ослепительной вспышке, озаряющей комнату, или порыву ветра, рожденному стремительным бегом поезда, у меня мелькнула мысль, что эта девочка на фотографии похожа на меня. В ее нахмуренном лице я узнал свое упрямство, ее сжатый кулачок напоминал о моей замкнутости и отчужденности.
И, сидя на полу среди разбросанного белья, среди красных «Н», которые смотрели на меня, я подумал, что только я сумел сберечь образ мамы: ведь она живет в чертах моего лица.
Я положил фотографию на колени и взял в руки вторую. Здесь мама была снята уже взрослой молодой женщиной, без той неуловимой презрительной и страдальческой складки у губ, которую я у нее привык видеть. Лицо ее было спокойнее, чем в то время, которое мне помнилось, в ее чертах сквозила улыбка. Как и на первой фотографии, мама стояла, на ней был светлый жакет, распущенные волосы ниспадали почти до щиколоток. На лице мамы неясно проступала улыбка, но сама она казалась недосягаемой под плащом своих длинных густых волос.
На уровне маминой талии — по волосам и жакету — шла выцветшая чернильная надпись; мне удалось разобрать только цифры 1, 2, дальше шли буквы, а затем опять цифры: 1, 9, 1, 2.
Долго просидел я, забившись под кровать, среди разбросанного белья с красными метками «Н»; я прислушивался к далекому маминому голосу.
С окраины я привез букварь, который напоминал мне про Абе, про Ванду, про мою жизнь у дяди. Теперь я умел читать, и каждое воскресенье мы с бабушкой ходили к дяде; я брал с собой тетрадку, Абе проверяла мои уроки и задавала новые. Школы еще не открылись, и я с нетерпением ждал первого дня занятий, как праздника. Бабушка не могла помогать мне в учебе; лишь гораздо позже она стала выводить меня из первых лабиринтов вычитания и умножения.
— Бабушка цифры знает и считать умеет, еще как считает наша бабушка! — говорила, смеясь, Абе.
Но теперь Абе была невнимательна к своему приемному сынку-кузену. Изящная и легкая в своих новых платьях, она часто бросала меня, уходя с сестрами на «подворье чудес». Пианино с двумя октавами все еще стояло в дядином доме, были здесь и тряпичные куклы, и граммофон с золоченой трубой и с танцовщицей; но и люди и вещи немели перед бабушкой, перед ее безутешным горем.