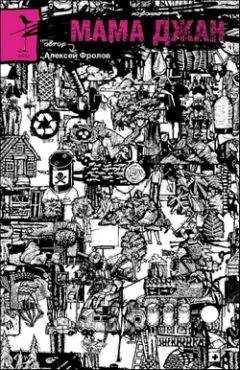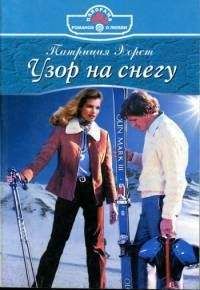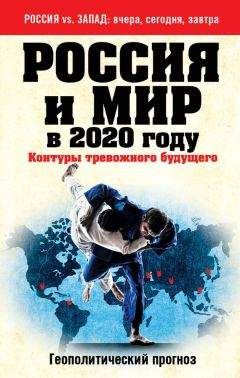Урс Видмер - Рай забвения
— Выходит, теперь везде так? — спросил я. — Все сокращаются? Издатель кивнул.
— Ну, ты-то найдешь другого, я в этом уверен. За тебя я спокоен. Такой мощный профессионал, как ты, без издателя не останется. Я тоже кивнул, однако все же усомнился:
— Но если у них у каждого осталось по одному автору… Или авторше…
— Мой милый, совсем без проблем жизни не бывает, — напомнил он, вскакивая на велосипед. — Поехали!
И рванул вперед так, что только покрышки задымились. Некоторое время я глядел вслед его удаляющейся заднице, а потом подобрал камешек, бросил в пасшегося рядом кролика и попал. Позже, уже возвращаясь домой, я долго не мог понять, отчего у меня на глазах выступили слезы: от озона или от встречного ветра.
Подъехав к дому, я увидел, что издатель сидит у меня на крыльце. А я-то думал, что уже никогда его не увижу! Ему просто не хотелось возвращаться к себе в издательство, и он решил выпить у меня пива. Пока я отпирал дверь, он полез куда-то в трусы и достал влажную от пота фотографию женщины лет тридцати, светловолосой, красивой. Един ственным недостатком Сесиль Паваротти было то, что взгляд ее глубоких глаз предназначался не мне. Мы поднялись по лестнице и снова уселись за кухонный стол.
— «Жизнь Эрики Папп»! — заявил издатель, доставая стакан и наливая в него пиво. — Вот то, о чем надо писать сегодня. История потрясающая! Заглавие, кстати, придумал я сам. Эрика Папп — дочь миллионера, детство и юность прошли на берегу Цюрихского озера, на той самой южной стороне, где владелец какого-нибудь «форда-фиеста» выглядит на фоне других жалким оборванцем. Виллы со спускающимися к озеру садами, кругом цветущие кустарники, выписанные откуда-нибудь с Бали или с Сицилии и рассаженные лучшими архитекторами. Собаки. У родителей Эрики тоже была собака, огромная овчарка, что на самом деле довольно странно, потому что фамилия у них была какая-то еврейская: то ли Гирш, то ли Блох. Родом они были из Германии, но швейцарское подданство у них древнее нашего с тобой, вместе взятых. Когда Эрика потом стала министром полиции, то гоняла инородцев и в хвост и в гриву. Вот о чем ты мог бы написать между прочим.
Я кивнул, не испытывая никакого энтузиазма, потому что голова у меня кружилась от голода. Пооткрывав по очереди все шкафы на кухне, я обнаружил там лишь зубочистки да использованную алюминиевую фольгу. В холодильнике стояла одинокая банка варенья.
— В Швейцарию они переселились вовсе не из-за Освенцима, — продолжал издатель. — Это было в первую мировую войну… Хотя что я говорю, еще задолго до нее. Юная германская демократия тотчас же после 1848 года сделала все возможное, чтобы отравить евреям жизнь, однако в конце века они все еще имели право жить где хотят. Так было и с ее родителями. Они жили в Мюнхене и торговали солодом. Фирма разорилась, и один из ее двоюродных дедушек церемонно, точно прусский офицер, простившись с женой и детьми, удалился к себе и застрелился. Родной дедушка Эрики собрал все, что осталось от фамильного имущества, и перебрался в Цюрих, где снова открыл торговлю солодом, очень скоро приобрел дом, а потом и машину, один из первых автомобилей в городе, — почтенный старичок за рулем в шоферских очках и крагах. Первая мировая, черт знает почему, взвинтила спрос на солод, и в двадцатые годы весь наш Swinging Zurich[5] только и делал, что хлебал темное пиво, а что было после изобретения овомальтина[6], и описать невозможно. Дедушка стал поставщиком Двора. Вот скажи, — произнес издатель, осуждающе глядя мне прямо в глаза, — почему ты никогда не пишешь ни о чем историческом, памятном, предпочитая какие-то фантазии?
Я начал было складывать в уме ответ, что, мол, фантазия и есть выражение самого памятного, однако для издателя этот вопрос был чисто риторическим, и он продолжал свою речь. Я успел услышать лишь, как он помянул отца Эрики, и тут у меня случился приступ кашля. От дикого голода воздух попал мне в пищевод. Я кашлял и давился, а издатель все говорил, и когда я опять смог слушать, отец Эрики, очевидно, уже вырос, купил машину, женился, поселился в той вилле над озером и успел родить Эрику, потому что в этой сказке «Тысяча и одной ночи» в изложении моего издателя она весело бегала по чудесным садам, слушая пение пчел, а где-то далеко бушевала вторая мировая война, и в нашей стране царили такие мир и благоденствие, каких никогда не было прежде.
— То make a long story short[7], — продолжил издатель, для которого Нью-Йорк давно стал второй родиной, — ее папаша записался в протестанты, как и положено цюрихцу, и предался свободомыслию, приняв сторону партии фабрикантов текстильных и прочих машин, которая во время войны только потому не стала фашистской, что ее члены de pere en fils[8] унаследовали уверенность в том, что демократия в том виде, как у них в стране, представляет собой идеальное государственное устройство для желающих без помех зарабатывать деньги. Им фюрер был не нужен, тем более такой. Их прадеды были революционерами, вырвавшими свою демократию из цепких лап господ с напудренными косичками, и они настолько гордились этими своими предками, что могли теперь позволить себе консерватизм, ибо то, чего они хотели, у них уже было: свобода. Их свобода. Эрика выросла, стала совершеннолетней и поступила в университет. Ее папаша надеялся, что она скоро выйдет замуж за кого-нибудь из сыновей его новых знакомых. Однако она была девушка своенравная, насчет морали у нее тоже были свои взгляды, и курс права сумел лишь заполнить ее досуг до того момента, пока ей не встретилась большая любовь. Училась она на отлично, делала доклады, в которых так изящно цитировала своих преподавателей, что те были в полном восторге от ее ума. Она ни с кем не испортила отношений. Незадолго до лиценциата она познакомилась с господином Паппом, ставшим ее судьбой, — юношей из вовсе не богатого дома, который только что закончил учебу и сделался правой рукой председателя той самой свободомыслящей партии (ее еще называли «либеральной»), — адвоката, так и не избавившегося от своего деревенского вида, несмотря на костюмы, пошитые у дорогого портного, и продолжавшего зарабатывать деньги (и немалые) консультациями для крупных промышленников. Юноша, хотя ему было тогда не больше двадцати пяти, быстро превратился в «движущую силу» всех политических группировок, обещавших защитить собственность и видевших в каждом детском велосипеде, выкрашенном в красный цвет, угрозу с коммунистического Востока. Об этом Папп, которого близкие звали Эрнст, своей возлюбленной не рассказывал (хотя это, как выяснилось позже, нисколько ее не пугало); он водил ее на все более длительные и все более ночные прогулки, закончившиеся однажды судорожным стягиванием трусиков под черными деревьями зоопарка. Потные от счастья, оба лежали рядом, тяжело дыша. Теперь и у них была своя тайна. Следующей весной они поженились. Был ослепительно-белый праздник в замке на воде, со ста пятьюдесятью гостями в вечерних платьях и смокингах. К ним заглянул на пару часов даже один госсоветник, подаривший новобрачным ящик шампанского «Эгль». Эрика тоже вступила в либерально-демократическую партию и согласилась вести общественную работу. Эрнст был очень ею доволен. Босс только что назначил его своим первым заместителем, ответственным за работу с объектами и субъектами в странах, где трудно копить деньги. В самом деле, какой южноамериканский промышленник, если он, конечно, не спятил, станет заводить банковские счета в песо или крузейро? У Эрнста была секретарша, часто красневшая и опускавшая голову на руки, лежавшие на столе. Эрика догадывалась, что между ними не все так просто, и однажды, в дождливый Новый год, когда гости наконец разбрелись по машинам и уехали, они остались втроем наедине посреди полопавшихся воздушных шариков и бумажных гирлянд. У Эрнста хватило сил на обеих, и обе женщины преисполнились к нему любовью, превратившей их в любящих сестер. Когда Эрнст уснул, они принялись зализывать раны друг другу. После этого они уже не расставались. Одевались одинаково и говорили о своем муже и возлюбленном, как если бы он был их общим ребенком. Впрочем, круги, в которых они вращались, видали многое, поэтому их альянс деликатно терпели. Эрнст, от которого эта страсть женщин тоже не укрылась, обманывал их во время командировок в Милан, происходивших все чаще, где он уже во второй свой приезд познакомился с одной графиней, взявшей инициативу в свои руки и привязывавшей его к кровати ремнями из черной кожи. Покрасневшими глазами смотрел он на ее сверкающие зубы и плеть, терзавшую его плоть. После третьей командировки ему пришлось давать объяснения обеим дамам, откуда у него полосы как у зебры. Эрика разрыдалась, а секретарша отнеслась ко всему вполне серьезно, решила попробовать сама и чуть не до смерти забила бедного Эрнста. После этого рыдали уже все трое; в конце концов они поклялись никогда больше не делать ничего подобного. Несколько недель они любили друг друга как все нормальные люди. Однако любовные утехи с графиней имели еще одну подоплеку: графиня была связана с мафией, желавшей таким образом поощрить юного цюрихского адвоката как делового партнера. На всякий случай все было заснято на пленку. Узнав об этом, Эрнст провел бессонную ночь, мучаясь жуткими страхами и строя планы, как ему скрыться вместе с Эрикой и Хайди, чтобы начать новую жизнь где-нибудь на берегу теплого моря, в соломенных юбочках и чистоте душевной.