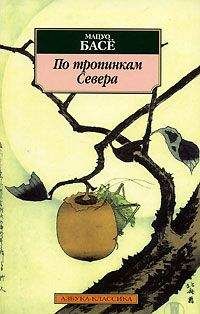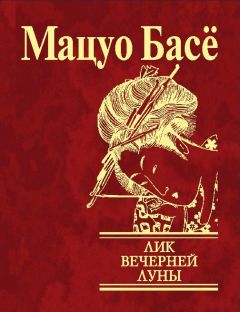Кеннет Уайт - Дикие лебеди
Басе не был дзенским монахом в точном значении слова (он одевался в черное, и его часто принимали за монаха, но таковым он не был). Поэтому к религиозной мотивации его путешествия надо добавить другие. Может быть, он ощущал глубинную тоску оттого, что никакая религия сама по себе, даже религия просветления, не могла успокоить его душу, и только отправившись в странствие, он надеялся обрести покой. Литературные побуждения тоже несомненны: оттуда, куда он направлялся, Басе надеялся вынести вдохновение.
Я думаю, он мечтал о книге еще невиданной, назовем ее “книгой пути и ветра”, которая была бы чем-то большим, чем обычный рассказ о путешествии или сборник стихов. Со времени первого путешествия он ощупью продвигался в этом направлении, используя формы поэтических путевых дневников (это была новаторская форма, ибо прозы в стиле хокку до Басе не существовало). Действительно, четыре первые книги кажутся разминкой перед главным путешествием “в глубь Севера”, которое оказалось самым длинным и долгим и увенчалось книгой, не знающей себе равных.
Географическому Северу в японской культуре всегда сопутствовал сгусток дополнительных смыслов.
Ведь даже если первый “веселый квартал”, Иошивара (“Долина счастья”), все еще находился в городских пределах, власти, тем не менее, отодвинули его подальше, к рисовым полям к северу от Асакузы. Иошивара в просторечиии так и звалась Хоккоку — “северная сторона”, и даже сегодня в этом квартале есть несколько ресторанчиков, где можно услышать фольклорные песенки Севера. То же самое произошло с театром кабуки. Посчитав его слишком “разнузданным”, власти также вынесли его на север. Таким образом, все, что считалось слишком вольным или непристойным, оказалось “с севера”. Когда некий художник ощутил, что он зашел так далеко и так высоко, как Полярная звезда, и должен изменить имя, он назвал себя “Мастерская Севера” (Хокусай).
Среди дорог, исходящих из Эдо, самая оживленная и известная — Токайдо, “дорога к восточному морю”, которая ведет в Киото и Осаку. Гораздо тише и спокойнее была Осу Кайдо, которая шла на север через Асакузу и квартал Иошивара и вела в “глубокие внутренние районы”. Эти места были еще известны под названием Мисиноку — “земли, где дороги кончаются”.
Об этих-то землях и думал Басе всю зиму 1688-го, мечтая о “странных виденьях северной стороны”, о “скалистых берегах, где кричат диковинные птицы и откуда уже можно различить вдали тысячу островов айнов”.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В глубь страны
Сбросив обувь,
шагать босиком
среди гор и туманов
На дороге
Самураи, переходящие мост, бродячие торговцы, подкрепляющиеся возле чана с рыбой, лодки с соломенными крышами на голубых водах реки — таким триста лет назад изобразил окрестности Эдо “живописатель текучей жизни” Моронобу[7], известный под именем “воробей Эдо”, в двенадцатитомном описании города Кинко Энцу.
В наши дни река в этом месте напоминает скорее илистый канал, а Мост Восходящего Солнца просто раздавлен массой автомобилей, которые завывают и рычат на автостраде Тохоку с утра до вечера.
Когда с утра пораньше мы — Кенжи и я — в “фольксвагене” вырулили на автостраду, лило как из ведра. Это мне понравилось, ибо напомнило мост, который старые художники так любили изображать под дождем. Хироcиге был первым из них (его знаменитый “Дождь”!), он “обучался ремеслу в одиночку с яростным упорством, бессчетное число раз поднимаясь в горы и бродя по долинам, чтобы запечатлеть истинный образ Природы…”
Должно быть, не меньше миллиона других машин этим утром отправлялось из Токио на север, дымя, скрипя и сигналя друг другу: это было настоящее безумие. В нашем “фольксвагене” царило молчание. Кенджи казался сильно озабоченным. Я же, напротив, был взбудоражен тем, что мы наконец в пути — на этой дороге, столь значимой для меня.
Мусаси, долина Мусаси, Мусасино — так называется сумрачное пространство песчаных равнин, простирающихся за Эдо. В старинной поэтической антологии говорится о “камышах Мусаси”, о странной дикой красоте оголенной равнины, о “духе равнины”, который был ей присущ, покуда она не была застроена. Последнее стихотворение из антологии, которое мне вспоминается, это элегическое сочинение Куникида Доппо, написанное в начале ХХ века, в котором оплакивается исчезновение этого места.
Грусть и ностальгия сильно ощущаются в Токио. Последние пристанища души грозят исчезнуть. И я хочу добраться до Севера, может быть, именно для того, чтобы вновь обрести то, что было утрачено, — или для того, чтобы самому потерять что-то и в результате вынести оттуда стихи…
Вдруг Кенжи произнес:
— Мы предали подлинный мир…
— Подлинный мир? Что это такое?
— Я не знаю. Но только не это, — он показал на дорогу.
— Но, может быть, мы вернемся к нему? Этот дурдом не может длиться вечно. Все это лопнет к чертовой матери, и очень скоро.
— Слишком сильно и слишком поздно.
— Да не так уж, если другие дороги будут открыты.
— Какие “другие дороги”?
Кенжи замолчал, играя желваками. В действительности и я не был тем оптимистом, каким казался в восемь часов дождливого октябрьского утра на автостраде Тохоку.
Сиракава
Мы выпали из потока в Сиракаве.
Сиракава, Белая река, традиционно считается воротами Севера. Возможно, поэзия странничества возникла из желания сделать приношения “духам дороги”. Как бы то ни было, небесам было угодно, чтобы в Сиракаве слагались стихи. Эта традиция была столь сильна, что некоторые поэты писали стихи о Сиракаве, ни разу не побывав здесь. Был случай, когда один поэт из Киото осенью представил в чайных салонах свою поэму о долгом путешествии, которое он якобы совершил. На самом деле он все лето просидел у себя дома, ловя загар в проеме окна, выходящего на задворки. Таким образом, лицо его загорело и обветрилось, как у настоящего путешественника, но, как заметил один внимательный наблюдатель, отсутствие мозолей на ногах выдавало в нем домоседа.
Басе, настоящий поэт-путешественник, не написал ни строки у Белой реки. Видимо, она не вызвала в его душе ярких образов, а “выжимать” из себя вдохновение он не захотел. Но в полях неподалеку он услыхал песню девушки, сажающей рис, и в этой нехитрой песенке уловил что-то, к чему давно стремился сам:
Первые отзвуки Севера
в песне крестьянки,
сажающей рис
Все время пути я следил за указателями на столбах. Мне казалось, что иероглиф “река” встречается все чаще, так же, как иероглиф “гора”. В Сиракаве я увидел старинную карту пограничного района и прочел комментарий к ней. От этого только сильнее желание проникнуть в глубь страны, в глубь осени, в круговорот мокрого ветра, краснеющей листвы, красного солнца, красной рыбы, красной крови…
Упражняясь в хокку
Кенжи очень хотел показать мне бумажную фабрику, расположенную неподалеку от дороги. Я согласился. Но перед тем, как отправиться в мастерскую господина Ногуши, мы занялись поисками ресторанчика, где готовят лапшу, ибо голод давал себя знать.
Выйдя из ресторанчика, я увидел странствующего монаха: черную статую во дворике храма. На голове его была широкополая шляпа, в руке — толстая палка, сандалии на ногах. Взгляд устремлен к горизонту — как будто он собирался отправиться на край земли и даже еще дальше. Рядом с ним другой монах, живой, в резиновых сапогах, с засученными рукавами, ковырялся в моторе автомобиля. У него был какой-то ненастоящий вид. Над нами висела тонкая морось, напитанная влажными запахами цветов, продающихся в лавках, и сухого дровяного дымка.
Мастер по производству бумаги жил и работал в старом деревянном доме на окраине города. Сначала я увидел во дворе женщин, которые мыли в чанах какие-то корни. Это были, как мне объяснили потом, корневища растения нира, разрезанные на кусочки: из них добывается слизь. Процесс подразумевает также обработку шелковичного дерева: ствол ошпаривается, отделяется кора и обнажается белый слой камбия; оголенное таким образом дерево сначала вымораживают, а затем варят и колотят, расщепляя на волокна. Это волокно, козо, смешивается потом с водой и слизью ниры, все вместе пропускается через бамбуковый фильтр, в результате чего получается лоснящееся месиво, которое раскладывают на пеленках. “Бумага с северо-востока” очень ценилась в эпоху величия Киото. “Самая нежная” — так говорила о ней Мурасаки Сикибу[8], писательница довольно привередливая в некоторых вопросах.