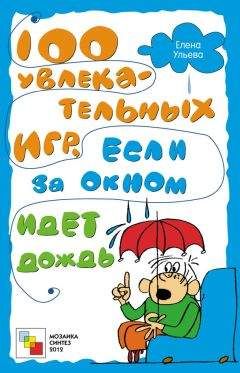Ольга Степнова - Миллиметрин (сборник)
Поняв, что через тридцать минут я увижу его, я пошла в ванную и сделала себе грим «а ля Вера Холодная». Раз я не Солнце, буду Верой. Холодной.
Осётр еле вошёл в мою крошечную кухню. Серёга заливисто хохотал и требовал комплиментов своему нестандартному подарку. Артур вежливо улыбался и прятал от меня глаза. В отчаянье я заявила, что сама справлюсь с этим монстром, схватила нож и замерла над огромной тушей, припоминая, какие действия нужно проделать с рыбой, прежде чем её можно пристроить на гриль. Кажется, главное действие имеет название «потрошить». Я буду потрошить осетра, пока парень по имени Артур режет овощи и открывает бутылку сухого вина. Я буду потрошить его так, как потрошу сейчас свою душу, дав согласие на этот совместный вечер.
Гадкие внутренности привлекли моё внимание тем, что в них что-то притягательно и ненатурально блестнуло. Отбросив брезгливость, я ухватила то, что никак не могло быть частью скользких, убогих потрохов. Я ухватила это и вытерла прямо о джинсы.
– Вера, зачем ты запихала в рыбу моё кольцо? – недовольно спросил подошедший сзади Артур.
На меня смотрела чёрными бриллиантами глаз моя золотая рыбка.
«Солнце, я буду любить тебя…»
Золото имеет мистическую силу, теперь я это точно знаю. Рыба ушла от меня, когда я совершила невероятную, преступную глупость. И вернулась, когда я искупила вину, исхудав от горя до состояния скелета, истосковавшись до серых глаз, превратившись из Солнца в Веру Холодную.
– Не смей называть меня Верой, – сказала я, надела кольцо на палец и скользкими, вонючими руками обняла его за плечи.
Артур не отшатнулся. Он посмотрел на меня прежним взглядом и спросил:
– Ты в этом уверена, Солнце?..
Я поймала его рот губами, не дав договорить.
– Вы извращенцы, друзья! – ввалился на кухню Серёга.
Я с трудом оторвалась от забытых губ.
– Это ты извращенец. Тащить из Атлантики осетра, только чтобы с нами поужинать!
Серёга захохотал ещё громче.
– А вы и поверили! Да я купил его в соседнем магазине!
Да здравствует гражданский брак!
Да здравствует гражданский брак, пацаны!
Вот я домой как—то на рогах пришёл. Мы с Васюком до пяти утра отмечали Всемирный день борьбы с засухой и опустыниванием территорий, а потом в шахматы играли. Васюк ладьёй был, я – конём. Я выиграл, потому что ладья – фигура статичная и малоподвижная, её в милицейский «Газик» после двух ходов запихнули, а я зигзагами ускакал.
Домой захожу, а Людка моя в коридоре в халате топчется, глаза красные, – видно, что не ложилась. Принюхалась ко мне и грустно так спрашивает:
– Тебе борщ погреть?
– Какой, – говорю, – Людк, борщ, когда за окном рассвет брезжит и пора кофе в постель тащить?
– Ну и тащи, – сказала Людка, пошла в нашу спальню, легла в нашу кровать, под наше пуховое одеяло с красными петухами.
А теперь скажите мне, пацаны, если бы у меня в паспорте штамп стоял, что Людка состоит со мной в законнейшем браке, стала бы она мне в пять утра борщ предлагать?!
Кофе она мой с удовольствием выпила, потому что кофе я варю хорошо в независимости от времени суток, количества выпитого и праздника, который мы с Васюком отмечали.
И только с удовольствием выпив кофе и жарко прижавшись ко мне под одеялом с красными петухами, Людка призналась в том, что вместо кофейных зёрен я смолол сушёную черёмуху, а вместо сахара бросил в чашку лимонную кислоту.
А теперь скажите мне, пацаны, если бы Людка была моей законной женой, сказала бы она мне спасибо за такой «кофе»?! Жмурилась бы она от удовольствия, глотая черёмуховый отвар, щедро приправленный кислотой?!
… Вот я и говорю, пацаны – да здравствует гражданский брак!
Три года в таком браке состою, и счастье стало постоянным спутником моей жизни: квартира прибрана, обед на плите, одежда постирана, кошка накормлена, на окнах рюшечки, на кровати оборочки, тапочки нагреты, носок в носок вложен, чтобы не потерялся.
Опять же, вопрос тёщи сам собой отпадает. Согласитесь, пацаны, вопрос тёщи в этом деле – принципиальный?
Поехали мы к Людкиной маме на дачу. Мама мне тяпкой на грядку указала и говорит: «Поли, коли приехал. Нам мужская сила нужна!» Пока они с Людкой на крылечке курили, я в пять минут ту грядку обработал. Только, как выяснилось, вместо сорняков всю морковку подчистую выдернул. Думаете, мне мама хоть слово грубое сказала?! Вздохнула только: «Бестолковый ты. Просто диверсант какой—то! Хорошо, что я на соседской грядке тебя сначала проверила. Ладно, давайте баню топить и шашлык жарить».
А теперь скажите мне, пацаны, стала бы мне Людкина мама так ласково врать, что я чужую морковку выдернул, если бы Людка была моей законной женой? Не стала бы, пацаны. Она бы хай до небес подняла, что я их с Людкой без морковки оставил, что век ей счастья не видать без каротина.
А так она мне рюмочку налила, пока я шашлыки жарил, и баню так растопила, что я чуть сизым дымком через трубу к небу не поднялся.
А вечером сама перину мне взбила и снова рюмочку налила, и снова слова грубого не сказала, когда я, прибивая портрет Людкиного папы над кроватью, лицом к стенке его приколотил. Вздохнула только: «Ну чисто диверсант! Хорошо, что я для проверки тебе сначала мужа Людкиного покойного подсунула, а не папочку нашего. А этот нехай так висит, ему так даже лучше».
Вот тут я, пацаны, малость взбеленился. Не знал я, пацаны, что у Людки моей муж какой—то там был. Какой такой муж? А я спрашивается – кто? И почему я козла этого на стенку должен вешать, пусть даже и мордой к брусу?
Я говорю:
– Мама! Какой—такой муж, блин? Почему муж? А я – кто?!
А мама мне говорит:
– Так Людка—то моя ведь не девочка. Какой—никакой жизнью половой и до тебе жила. И муж у неё был, и не какой—нибудь там гражданский, а настоящий, в загсе фиксированный. Только помер он. Не вынес счастья обладания моей Людкой.
– И что, – говорю, – и свадьба была, мама?
– И свадьба была, и платье белое, и фата до пола, и кукла на капоте, и крики «Горько!» и море водки и песни до утра и прочие отвратительные, мещанские штучки.
– Почему же это, мама, отвратительные, отчего же – мещанские? – спрашиваю.
Люська в это время на кровати сидела. Зыркнула она на меня, в подушку уткнулась и заплакала вдруг, затряслась. По мужу своему помершему, по законному, наверное, убиваться стала.
Тошно мне, пацаны, стало. Начал я портрет от стены отковыривать, да всё никак не могу – хорошо прибил, надёжно.
– Как почему? – возмутилась мама. – Как отчего?! Да знаю я как вы, молодёжь, сейчас к печати в паспорте относитесь. Пережиток всё это! Не говоря уже о белом платье, фате и криках «Горько!». И вообще, чего ты меня мамой—то называешь? Несовременно это и беспонтово. Зови меня Таней. Ну, Тань Иванной в крайнем случае. И чего это ты стойку на слово «муж» сделал? Ты у нас бойфренд, а это в сто раз круче. Правда, Людка?!
Смотрю я, а Людка моя рыдает в подушке, ходуном аж вся ходит.
Тут у меня, пацаны, ревность взыграла.
Я портрет от стены оторвал, Людку от подушки отпихнул, сунул ей фото под самый нос и говорю:
– Что, по законному своему плачешь? По нему тоскуешь? Что ж не говорила мне никогда, что ты вдова?!
Смотрю, а Людка моя не плачет, а вовсе даже наоборот – хохочет.
– Мам, – говорит и за живот от смеха держится, – мам, а он никак приревновал меня к Петьке—покойнику!
– Ах, ты…, – заорал я. – Он ещё и Петька?!
Уставился я на портрет, а там красавчик такой с белогвардейскими усиками.
Гадко мне, пацаны, стало, и нисколько не легче, что Петька этот в покойниках числится. Хрястнул я портрет об пол. Стекло вдребезги, рамка в хлам. Мама посмотрела на останки эти и говорит:
– А и правильно, чего покойников на стенку вешать? Давайте папу присобачим, только лицом к народу.
– А отчего он помер—то, Петька этот? – вдруг разобрал меня интерес.
– Отравился, – хихикнула Людка.
– Чем?!
– Да вот также к маме приехал, в баньке попарился, шашлычков поел, рюмочку выпил, папин портрет прибил и…
Струхнул я, пацаны. Чувствую, плохо мне – голова кружится, тошнит, колени трясутся, а этот гад усатый с пола меня глазами буравит.
Ноги подкосились, я на кровать упал.
– Меня—то за что? – шепчу. – Я ж вам всего лишь бойфренд, никаких обязательств, одни удовольствия…
А Людка с Таней… с Тань Ивановной хохочут:
– Да пошутили мы! Вставай, бойфренд «одни удовольствия»!! Вставай! Пошутили мы!!
– Как, – говорю, – пошутили? Зачем пошутили?
Чувствую, лучше мне стало – ничего не болит, не кружится, не подкашивается.
– Так и пошутили. Петька наш алкоголик был. Пил всё, что горело, вот и употребил один раз жидкость для чистки ванн. До больницы довезти не успели.
– Ваш Петька?! ВАШ?! – заорал я.
Вот не думал я, пацаны, что такой неживой, портретный пацан может вывести меня из себя.
– А я—то чей?! – спрашиваю. – Чей я?! Почему не мой портрет на стенку вешаете, а этого белогвардейского алкоголика?!!