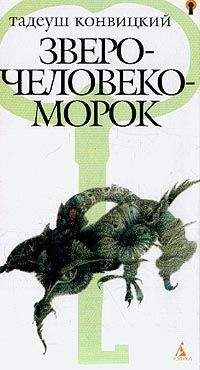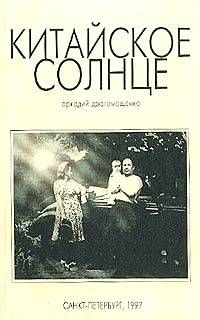Аркадий Драгомощенко - Китайское солнце
Был ли я продолжением шума, его источником, началом, — или же голосов, доносившихся снизу? Величественный, одновременно беспомощно-жалкий мир дня неторопливо поворачивал свой гигантский диск, удлинял тени, перекраивал очертания. Травы просты и простираются простыней охры к краям сознания. Как бы в последний раз (каждую ночь в новом приближении) со странно-беспричинным и сентиментальным чувством я касался стволов подсолнухов, шершавых досок забора, будто бы тесно приникал к осязаемому бальзамическому духу сухой ромашки, воблы и, растворяясь в нем, переходил бесплотный и непобедимый пространством к латунному дребезжанию оконного стекла, изучая тиснения перепончатого перламутра французских духов, кривизну и скорость луча, типографской краски, льда игральных карт и клавиш блютнеровского рояля. Гормональное созревание. Ковры раскрывали спирали суфийских поучений, фарфор костяным шершнем жужжал у зубов, расщепляя молекулярные сцепления ореховой пыли, тогда как за окнами, выбеленное дотла полуднем, текло, подобно сухим водам Корана, половодье бабочек-капустниц, которые — теперь я уверился в этом вполне, — уже никогда не оставят то время, подобно тому, как силуэты паровозов ни на секунду не оставляют картофельные циферблаты Кирико. Начало детской любви лежит в центре галактического головокружения абсолютного одиночества. Сажа. Спокойная ясность опрокидывает: пейзаж является словарем, чьи шелковичные гнезда переполняются исчезновением прикосновений его составляющих — но и тебя самого, окунувшего пальцы в морозный костер собственной тени.
Онемение струйками пузырей восходит по артериям.
В действительности корни чего бы то ни было висят в пустоте. Вакуумология и вирусология — дисциплины, которым должно объяснить сущее. И этот дар, с годами уходящий неуклонно, как отлив, обнажающий неприглядность неминуемого дна узнаваемой жизни, — единственный, которым пытаешься поделиться с другими и что, как оказывается, не нужно, потому что никого не остается в сквозных клетках упразднения. Но что такое "тогда"? — смутное ли это указание на должное произойти время, исполнение, или же короткий, необязательный кивок куда-то туда, назад, вспять: "тогда". Что производит тогда?
Эта способность убывает с годами, и когда наступает следующий прилив, ты входишь в него избавленным ото всего, что стояло между тобой и ничто (тогда). Насекомые, чьи подкрылья исписаны палевыми письменами, сухи и неприглядны. Залив, острова, снег, камень, принимающий любые формы. Не передать, как чудовищно безлюдны и скучны зимние вечера на пустынных улицах города, где прошло детство любого. Немощный электрический свет висящих где-то вверху голых ламп, сиреневые сумерки, снежная крупа, стук замерзших ветвей в разрушенных хоромах акаций. Ни теней, ни тьмы.
Мне предложили рассказать о тайных законах алфавита, о пятилетних циклах постепенного исчезновения букв с их позиций, и что остается никому не ведомым, поскольку (непонятно по каким причинам) пользующиеся алфавитом в своих целях продолжают одержимо оперировать с несуществующими буквами, будто ничего не произошло и перед ними простирается не бесцветная вне времени и продолжительности пустыня, но то, к чему они, прибегая якобы к известным знакам, дают имя преисполненной тишины, где разом обретаются все смыслы будущего явления и исчезновения, включая также значение бесконечно повторяющего себя события исчезающего алфавита. Хор немых. История предлагает не только имена. Метеориты казались искрами, летящими из-под стали, лезвие которой правилось на черном кругу ночи. Поэт видит один и тот же сон: говоря он подразумевает другое, думая он произносит противное. Различие рек, флоры и фауны. Поэт прикладывает пальцы к губам (обычно этот жест воспринимается как знак тишины) и пытается унять в них хищную дрожь, потому что ему кажется, что он начинает непосредственно постигать иные силы, напряжения, — но сон теряется в другом, где без остатка растрачивается на таинственные превращения, до которых никому нет дела. Машинерия точно размеренных прерываний. Наивные вопросы вызывают очередные приступы головной боли. Аспирин в таких случаях бесполезен. Боль напоминает призму, в которой расщепляется на спектр монотонность всегда уже наступившего. Не притупляется с годами. Где находится "всегда"?
Этим вопросом я всегда начинал свой рассказ, когда мне предлагали повествовать о сокровенных законах, приводящих в движения жернова букв. Именно там, как я уже говорил, залив, острова, снег, камень, а позже, много спустя, свернувшаяся улиткой зноя прибрежная полоса, испытующая пурпур и ультрамарин под сетью близорукости, расправленной ветром. Но страшнее пробуждения в 6 часов утра (занятия в школе начинались в 7), ничего не было; но однажды мне пришлось столкнуться с явлением, не имевшим никакого отношения к моей обычной жизни: легко вьюжило, был слабый мороз, я вышел из дому как всегда за минут десять до начала уроков (школа находилась в двух кварталах от дома) и через полчаса обнаружил себя на вокзале, вернее на улице, ведшей к нему, совершенно в другой стороне. Вечером, лежа в постели, я еще и еще пытался проникнуть в провал утреннего разрыва времени, — раз за разом повторял в воображении всю цепь следовавших друг за другом примет действительного: завтрак, выход из дома; я видел поземку, я ощущал необыкновенно пронзительное прикосновение снега к лицу, запахи мерзлой сбитой земли тротуара, до умопомрачения взвешивал и умножал детали, прозревая в них еще большие множества свидетельств реальности. Несмотря на все усилия и упорство, я не мог восстановить лишь единственного мгновения — единственной непостижимой точки потери "сознания", "перехода", которая должна была служить чем-то наподобие дверей, но куда? — к прожигающей искре, мгновению обнаружения себя? Куда ушло двадцать или сколько там минут? Где я был? Кем? Царственной, бескостной улиткой, парящей в пурпуре материнских вод? — но, исполненному безмолвия и тихого смеха Бодхисаттв, сколь долго суждено было восходить мне к зеркальной поверхности вне отражений, вне имен и голоса? Божественную малость этой точки ни ум, ни чаяние человеческое не способно ни уместить, ни расположить в намерении так же, как и в воспоминании, — много позже скажет отец Лоб. В зябкое октябрьское утро мы будем сидеть на крыше предназначенного на снос дома, рассматривая стаканы в руке и муравьиное шевеление Сенной под нами. Память ничего не сохранила из этого отсутствия. Стало быть, я действительно отсутствовал? Где? Почему? Мог ли я впасть в обморочное состояние и в то же время идти, переходить оживавшие улицы, не привлекая к себе внимания? Возможно, я спокойно разговаривал с прохожими о птицах и елках.
"В действительности существует два вопроса, между которыми колеблется наше воображение, скажет о. Лоб, известный некогда в миру как Алексей Лобов, системный программист и хакер: "Действительно ли я умру?" — и: "Действительно ли то, что я жил?" Оба изначально бессмысленны в симметрии, как и вообще всякие вопросы, но любой ответ разваливает их взаимное равновесие, наделяя ненужным значением. Что остается? "Тогда"?"
Я лежал в постели и чувствовал, как остывает лицо — до сих пор мне не приходилось еще сталкиваться с подобной несправедливостью. Непомерность обиды была очевидна (скорее оскорбления…). На рисунке Бог представал совершенным алгебраическим яйцом, топологическим казусом, вовлеченным навсегда в обиход литературы, но случившееся ветвилось в иное. Произошедшее зимним утром, не имея в моем словаре ни места, ни времени, ни описания, ни определения, ни даже отдаленного сходства с чем бы то ни было в опыте, тем не менее, продолжало существовать и теперь совершенно неотделимо от самого меня. Иными словами, я стал ощущать в своем существе некую, возможно чуждую мне, но нескончаемо манящую форму иного существования, открыть которое мне еще только предстояло, — во всяком случае, так думалось. Но сколько лет потом, просыпаясь зимой с радостным предвкушением возможной разгадки, я выходил из дома, пытаясь скрупулезно повторить все особенности того утра, вплоть до поворота головы, количества шагов, мелькавших мыслей, сжимаясь в какое-то подобие шелковичного червя, шара, в фигуру абсолютного покорного ожидания (ведь мне нужно было просто понять, и только; ничего другого я не преследовал), замерзая, теряя себя, леденея от ярости, оставаясь, тем не менее, там, где я был, на улице, под серым небом, за стеной бесполезных и совершенно прозрачных глаз. Вся дальнейшая жизнь частью складывалась из таких же бесповоротно обреченных попыток приближения к давно миновавшему утру — книги, женщины, путешествия, простиравшие свою власть далеко за пределы вещей и снов, боль, которая, как позднее выяснилось, вовсе не принадлежит человеку, невзирая на то, что берет в нем свое "начало", так же как и все остальное, пребывающее в хрупком равновесии на краю словесного усилия, вопреки его интенсивности, и в потоке которой воображение кажется пустой горошиной, обреченной нескончаемому танцу в самообольщении невесомости и бесконечности. Отнюдь не боль принадлежит человеку, но только ее иллюзия — страдание, которое он/она присваивают с такой же корыстью, как и все остальное. И вот, если будешь упражняться в применении боевых колесниц, то будет благоприятно, куда выступить, тогда как беспорочность уйдет в созерцании скул и верного движения. Мало ли что может привлекать внимание. Оконные рамы, высушенные плоды, подсказывающие причудливость очертаний, не имеющего именования, линзы, вращающие прозрачные поля достоверности на нитях сотканных ими лучей. В дождь человеческие запахи усиливаются. Оптика знания, не имеющая к видению ни малейшего отношения: но в поле зрения не "знание", а так… оборванный анекдот, какой-то вздор — возникает коммуна почитателей Гурджиева, эвкалиптовые рощи на бурых холмах вдоль океана между Сан Диего и Лос Анжелесом, хотя расследование начинается с юга России, где, в секте хлыстов, ее видели в последний раз, — но, как бы то ни было, все эти поспешные образы оказываются ничем иным, как результатом последовательности взаимосвязей черного и белого. Наступает временное перемирие. Цвет возникает из его отсутствия, подобно тому, как приходит реальность всевозможных "я", "ты", "эвкалиптов", "реальностей", "отношений" и т. п. В чем заключено бессилие отказаться от этого? Что залегает под этим слоем? Лишь одно осознание существования некой машины, живущей по своим, отстоящим от тебя, законам? Трудно поверить. Но сама "машина" — что она такое? Сцепление нескольких смехотворных метафор? Возможно, просто челночное колебание сомнения в ее существовании, смирения пред ней же, и, безусловно, восстания. Скрипящая дверь.