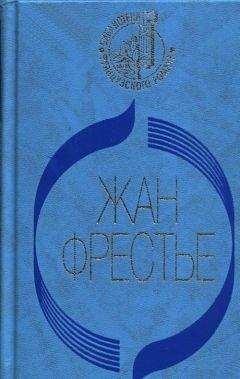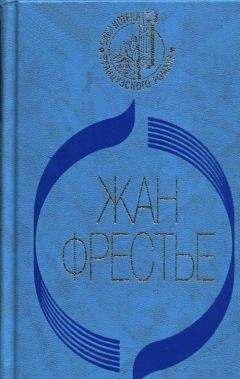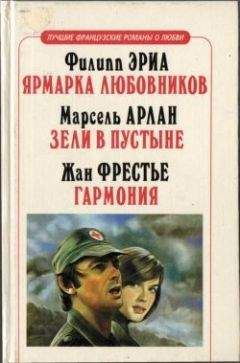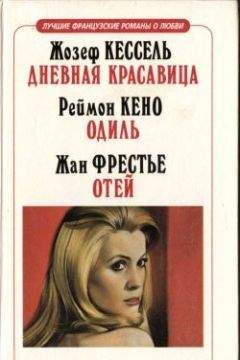Жан Фрестье - Выдавать только по рецепту
— Нам как раз нужен зонт, — сказал Жорж. — Пойдемте с нами, вы поможете нам выбрать.
Мы вошли в специализированный магазин. Генриетта попросила показать дешевые зонты.
— Нет, нам нужен красивый.
Она остановила свой выбор на зонте с ручкой из красной кожи. Продавщица утверждала, что вещь прочная, и это окончательно нас убедило. Я хотел заплатить, но Жорж и слышать об этом не хотел. Рене даже не достал бумажника, чувствовалось, что он нас не одобряет. Однако немного позднее, в кино, он купил для Генриетты карамельки. Он сидел с краю; карамельки Генриетте передал Жорж, так что получилось, будто это Жорж ей их презентовал. Когда начался фильм, Генриетта надела очки, которые украдкой вынула из сумочки. Я следил за руками Жоржа; по счастью, действие фильма разворачивалось высоко в горах и отсветы снега освещали зал.
Мы поужинали в казино. Генриетта не говорила о том, что ей надо домой. Никто из нас не намекал на будущее. Можно было подумать, что вся наша жизнь заключалась в этом вечере, что у нас не было ни прошлого, ни будущего, настолько расплывчаты были наши слова. Но каждый, кроме себя, думал и о будущем.
После ужина оркестр заиграл легкую музыку. В толпе было несколько американских офицеров в плотном окружении; они встали и спели «Марсельезу», на что публика, не зная американского гимна, ответила: «Боже, храни короля». Наконец, в полночь несколько раз погас и зажегся свет, швейцар с галунами похлопал в ладоши, выпроваживая публику. Жорж вызвал гардеробщика; зонтик появился одновременно с нашими плащами. Возник вопрос, кто из нас троих предложит свой плащ Генриетте. Она приняла плащ Рене; Жорж аж побледнел.
Мне стало тоскливо. Улица была последней границей тишины. Это была улица без света; едва угадывались деревья и скамейки по краям тротуаров. Жорж спросил: «Куда идем?» Он обращался к Генриетте.
— Куда хотите, — ответила она таким спокойным голосом, что я вздрогнул.
Весь день она говорила о ничего не значащих вещах с таким спокойствием, что казалось невозможным задать ей вопрос. Теперь было еще хуже. После ее ответа второй вопрос был немыслимым.
Жорж толкнул меня кулаком. Рене в темноте пожал мне руку. Я чувствовал «связь» со всех сторон, так невидимый в ночи корабль получает сигналы с земли.
— Пожалуйста, подождите нас, мы на секундочку, — сказал Жорж.
Он утащил в сторонку меня и Рене. Генриетта осталась одна; мы не боялись ее потерять. Ее белое платье светлым пятном маячило в темноте.
Посовещавшись, мы вернулись к ней. Впервые у нее был смущенный вид. Она запахнула на груди плащ Рене и молчала до самой гостиницы. Я хотел, чтобы все было как полагается; мы выбрали отель «Амбассадор», лучший в городе. Жорж потребовал номер с ванной, ему вручили ключ, который он вручил Генриетте. Мы сняли наши красные фуражки в знак прощания, и этот непривычный для нас жест достойно увенчал наше изысканное поведение. Генриетта спала в гостинице одна.
А мы провели ночь в приемном пункте, как накануне. По дороге туда Жорж говорил о том, как бы отложить на день его отъезд в Тунис.
— В конце концов спаги меня подождут; один день ничего не решает.
Рене запротестовал:
— Я был уверен, что все это добром не кончится. Тебя объявят дезертиром, засадят за решетку. Хорошенькое дело!
— Рене прав, — сказал я. — Ты должен ехать. Я займусь Генриеттой. У меня идея. Я увезу ее в Мсаллах, сделаю из нее медсестру. У нее наверняка есть способности, она сказала, что любит животных.
— Думаешь, она согласится?
— Конечно. Она делает все, что хочешь, надо только говорить погромче.
У Рене был озабоченный вид.
— Это все очень серьезно, — сказал он.
Я вернулся в Мсаллах. Генриетта приехала со мной. Мы прибыли ночью. На вокзале нас никто не встречал. Накануне сильная бомбежка искарежила привокзальный квартал. Фасады домов поизносились в мое отсутствие; с них свисали ставни. Железные жалюзи на магазинах вздулись. Мне показалось, будто мое отсутствие было долгим; я не смог бы сказать, сколько оно продолжалось; вокзальные часы потеряли стрелки.
Именно в этом месте я в последний раз видел Сюзанну. Возможно, она постарела, как фасады домов, возможно, уехала отсюда. Я уже грустил над воспоминаниями двухдневной давности.
— Справа море, — сказал я Генриетте. — Когда будет хорошая погода, искупаемся.
Она улыбнулась изнутри, не шевельнув ни единым мускулом. От радости лицо у нее просияло. Она несла чемодан старинной цилиндрической формы и свой зонт с красной рукояткой.
— Не наступите в лужу, — сказала она мне. — В шоссе выбоина. — Затем добавила: — Тепло здесь.
— Да, морской климат. Дождь мягкий. От него апельсины хорошо растут.
Мы поднимались в темноте по нескончаемым лестницам между оградами домов, которые вели от центра к больнице.
Консьержка не удивилась, увидев меня, ее толстое бледное лицо было неспособно к выражению удивления. Волоча ноги с набухшими венами, она принесла в интернат простыни и одеяла.
— Вот мой дом, — сказал я очень громко.
Мой голос эхом пролетел по комнатам; на смену шуму путешествия пришла гулкая тишина прибытия. Я наступил на осколки стекла:
— Надо же, окна разлетелись.
Генриетта захотела тотчас лечь спать; она устала. Оставшись один, я подсел к бару на свое привычное место.
— Ну вот, — произнес я вслух.
Изо рта у меня вырвалось облачко пара. Скоро я замерз. Я принялся ходить по дому, открывая одну за другой все двери, кроме комнаты Генриетты. Я провел перекличку отсутствующих: Жоржа и Люсетты, Рене и Эммы, себя и Сюзанны. Вот кухня (в раковине затычка) и ванная (я заглянул под ванну). Коридор казался слишком ярко освещенным для такой тишины. Словно пустынный коридор на корабле, когда ты просыпаешься ночью и идешь на палубу посмотреть, какая погода. Погода была плохая. Плавание обещало быть опасным.
Я подошел к двери Генриетты и прислушался. Она спала, не подозревая об опасности, не зная, что мы потерпим кораблекрушение. Я чуть было не разбудил ее, но урезонил себя, загнал свой страх поглубже внутрь. У меня на попечении была живая душа. До сего дня я подбирал только кошек, собак и ни разу живую душу. Я не стал будить Генриетту, вернулся в столовую, открыл чемодан, чтобы достать пижаму. Под бельем металлически блеснула коробка для шприца. Я вдруг испугался. Я огляделся в этой большой пустой комнате с непристойными картинами, окнами, выставленными войной. Я вдруг перестал понимать, что я здесь делаю, посреди войны, что означают этот шприц, эти мерзкие картины, а в соседней комнате — эта девушка, которой я не знаю.
Я вошел к себе в комнату, хотел закрыть дверь на ключ; ключ исчез. Прежде чем лечь в постель, я придвинул к двери шкаф.
* * *Сюзанна не постарела и не уехала. Как и раньше, она каждый день приходила ко мне в комнату. Прячась от Генриетты, она, как и раньше, приходила через рощицу, по большому склону под интернатом.
Из-за непрекращающихся бомбежек Жан снял для жены небольшой домик в трех километрах от города. Он не хотел, чтобы его жену убили, считал нелепым положение вдовца.
— Я всегда отказывался носить обручальное кольцо, — сказал он мне как-то раз, — и мне было бы еще неприятнее прицеплять черный бант на отворот пиджака.
Так что Сюзанна жила за городом. Каждый день она приходила в город якобы за покупками. Каждый вечер, уходя от меня, она уносила корзинку с провизией, которую я поручал утром купить для нее интернатской прислуге по списку, оставленному Сюзанной накануне.
Мой отъезд был ложным; вскоре мне уже казалось, будто я и не уезжал. Только Генриетта напоминала о моем непродолжительном путешествии. Я мог бы написать у нее на лбу: «На память об Ифри, 28-й полк спаги». Генриетта была моей памяткой о войне; я так и объяснил Сюзанне.
— А ты иногда целуешь ее, эту твою памятку о войне?
— Никогда, даже руки ее не касаюсь.
— Обещай мне, что ты к ней не притронешься.
— Обещаю.
Генриетта приступила к обязанностям санитарки в больнице. Она жила в интернате, и, чтобы попасть на работу, ей надо было лишь пройти через сад.
Она редко говорила о себе. Только однажды намекнула на свое прошлое. Я узнал, что она ушла из дома, спасаясь от отчима, которого она ненавидела.
— Когда моя мать куда-нибудь выходила, — сказала Генриетта, — отчим приходил ко мне в комнату. Начинал перебирать всякие вещи поодаль от меня — вазы, книги. Понемногу приближался ко мне, говорил, что я красивее, чем моя мать. Однажды он сделал мне очень больно.
Мне захотелось утешить Генриетту, создать ей дом по ее образу. Бар в столовой снова стал буфетом; непристойные картины скрылись под обоями и старинными фаянсовыми тарелками с изображением времен года. Генриетте нравилась тарелка с изображением зимы: три трубочиста на фоне снега. Она всегда смотрела на эту тарелку перед тем, как сесть за стол. Словно изучая показания барометра, она вглядывалась в снег на заднем плане, грела руки у печки, потом садилась напротив меня.