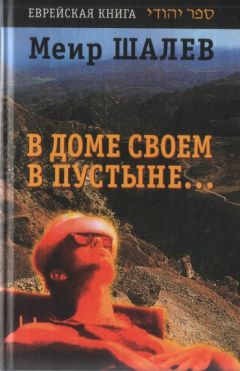Меир Шалев - В доме своем в пустыне
Вернусь к комнате, в которой я был зачат, в тот дом, что вблизи старого Библейского зоопарка. Так вот, несколько лет назад, когда я в очередной раз поднялся из пустыни, чтобы навестить Большую Женщину и заточить свои притупившиеся воспоминанья на точильных камнях тех мест, где они родились, ноги вновь привели меня к этому дому. И внезапно, через много лет после того, как Мать покрасила их в зеленый цвет, железные ставни бывшей комнаты моих родителей с лязгом распахнулись настежь и передо мною в открытом окне предстала девушка с обнаженной грудью. Она увидела, что я стою перед домом и гляжу на нее, смутилась и улыбнулась мне одновременно, тут же отступила внутрь, с тем же лязгом захлопнула ставни и исчезла. Еще какое-то мгновенье звук запахнувшихся ставен плясал на моей барабанной перепонке, еще какое-то мгновенье две девичьи груди светились в воздухе, как две яркие электрические лампочки в зажмуренных глазах, а потом погасли и они.
Я не раз думаю, что могло бы произойти, подойди я тогда и постучи в эти ставни, и в конце концов утешаю себя предположением, что они, скорее всего, так и остались бы закрытыми. Да и зачем тебе, Рафи, вся эта сумятица, а? к чему? лучше иди к нам, Рафауль, ни к чему тебе вся эта пустая суета. Вот так, Рафинька, так оно лучше, Рафаэль, успокойся.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗООПАРКА
Строительство зоопарка и заселение его клеток были тогда в самом разгаре. Каждый день со Сторожевой горы, где раньше находились животные, прибывал маленький грузовик и выгружал павлинов с увядшими хвостами, попугаев, выцветших от холода, и обезьян с потухшим взглядом. Прибыл и огромный тигр, с написанным на широченной морде крайним удивлением и волочащимся за лапой грязным бинтом. Льва, явно знававшего лучшие времена, усыпили перед переездом и прямо так, спящего, вкатили в его новую клетку, и двое маленьких сирийских медвежат скоро начали реветь по ночам из своих новых бетонных берлог.
Стена родительской комнаты прилегала к забору «королевских оленей». Английский король Георг («Его королевское величество Георг Пятый», — поправляет Рыжая Тетя, бракосочетание которой с Нашим Эдуардом происходило во дворце Верховного комиссара, в присутствии самого сэра Алана Каннингема лично) прислал этих оленей из своего поместья в подарок жителям Иерусалима.
Огромные, рыжие и прекрасные были они, с этими своими великолепными светлыми пятнами и величавой развесистостью рогов, и, хотя я никогда не видел Дядю Эдуарда, кроме как на стене коридора, где он висит рядом с остальными Нашими Мужчинами, я всегда представлял его себе одним из таких оленей, только с более светлой шерстью и без белых пятен на спине, что пасется на сочной зеленой траве королевского поместья, ибо Дядя Эдуард тоже был из Англии и его тоже прислал Английский Король в подарок Стране Израиля. Только не всем ее жителям, а одной-единственной женщине.
По ночам, когда темные кошмары обезьян воплями врывались в ее сны, Мать просыпалась, прислушивалась к непрестанному металлическому побрякиванию и понимала, что это два оленя-самца, большой и молодой, закрыв глаза, бьются и бьются своими могучими телами о железные прутья забора.
«К животным Иерусалим еще злее, чем к людям», — написала она в одной из своих записок. Тогда она оставляла записки Отцу, своему покойному мужу, а сегодня мне, своему беспокойному сыну. А по утрам, каждое утро, она открывала железные ставни окна — те ставни, что до сих пор там, зеленые и закрытые, как будто после той покрасившей тогда руки их не касалась больше ничья другая, даже рука девушки с обнаженной грудью, — и подзывала к себе королевских оленей.
Шагами легче коровьих, но тяжелее поступи лани они приближались и останавливались у ее окна, поднимали большие головы и высовывали влажные языки. Поскольку Мать была маленького роста, ей приходилось становиться на перевернутое ведро для мытья полов и еще подниматься на цыпочки, чтобы высунуться из окна, и вот так, почти падая в вольер, красная от напряжения, она протягивала руку и приманивала их остатками сухого хлеба и кожурой грейпфрутов и огурцов, — тогда они вытягивали к ней шеи и позволяли погладить бархатистость своих влажных носов и фиолетовую черноту оттопыренных губ.
Однажды, несколько лет назад, когда я был в армии и пришел на побывку — и в тот раз ночью и в тот раз из пустыни, — а Бабушка, сестра и обе Тети уже спали, и только Мать, как всегда, бодрствовала, читая и грызя свои облатки в «комнате-со-светом», она вдруг сказала мне, что я уже достаточно повзрослел, чтобы выслушать, как и когда я «был зачат».
Откровенна была она, и ее рассказ был на удивление подробен. На заре того дня, так она рассказывала, королевские олени бились об ограду особенно сильно, не давая ей заснуть, и, когда колокола городских церквей принялись вторить ударам рогатых пленников, она прижалась шеей к губам Отца — «которые тогда были еще живыми, Рафаэль, и такими теплыми и мягкими со сна», — взяла его руку и положила себе на живот, а свою ногу положила на его сонное бедро и обняла его — «вот этой самой рукой!» — и стала тормошить, до тех пор, пока он не проснулся и взял ее в объятья.
Так она рассказывала. Мне, а не тебе — может быть, потому, что знала, как хорошо ты помнишь и как хорошо я забываю.
«Люди отправляются в самые разные места, Рафаэль, лишь бы иметь, где вспоминать и о чем тосковать, — сказала она. — Здесь мы гуляли, здесь мы поцеловались, здесь ты помог мне спрыгнуть с террасы, а здесь у тебя порвалась сандалия, и я скрепила ее двумя шипами мимозы. Но мне — мне не нужно никуда ходить. Я даже в тот наш дом ни разу не заходила с тех пор, как твой Отец погиб».
Ее ладони шевельнулись. Поднялись с бедер, задержались на диафрагме и потом остановились перед глазами, растопырив пальцы. «Я и на могилу не хожу. Мне достаточно глянуть на эти вот пальцы, которые гладили его, притронуться к своей шее, которую целовали его губы... Ведь наше тело — самое лучшее хранилище воспоминаний, правда? Ты теперь уже большой мальчик, Рафаэль, солдат, тебе уже можно рассказать об этом, верно? Почему ты так улыбаешься? А?»
Я улыбался, потому что только такие беспамятные, как я, способны услышать и правильно понять, о чем она говорила, распознать воспоминания, которые хранятся не в голове, а в теле, осаждаются на коже барабанной перепонки и на сетчатке глаза, скапливаются в усталых волокнах мышц, собираются в слизистой живота и в пустотах носа. Вот они — одна за другой их дивизии маршируют внутри моего тела на парадах своих побед, спускаются по костлявому склону спины, грохочут тысячами подкованных подошв в ущельях ребер, экзаменуют мои почки и посмеиваются над ними.
И сейчас я опять улыбаюсь, потому что таким вот беспамятным, как я, чье мозговое сито не способно ничего на себе удержать, только ведь этот вид памяти и знаком, а все остальное для них — незаполненные пустоты: вот эти промежутки стены между портретами, и эти прогалины кожи между прикосновениями, и эти зазоры безмолвия между звуками, и эти ласки, и эти вкусы, и эти запахи. Ты уж прости мне столько «этих» подряд, сестричка, но правда — ничто так хорошо не закрепляется в памяти, как несколько «этих» одно за другим.
ОНИ СОЕДИНИЛИСЬ В МЕДЛЕННОЙ, СОННОЙ ЛЮБВИ НА РАССВЕТЕ
Они соединились в медленной, сонной любви на рассвете, а затем Мать поднялась с тем ощущением неотложности и понимания, которое знакомо птицам, начинающим строить гнездо, и объявила, что желает немедленно отправиться в свой новый квартал, где уже началось строительство.
— Я хочу посмотреть, как продвигается наша квартира, — заявила она к большому удивлению Отца.
— Сейчас? Скоро утро. Нам нужно идти на занятия, — сказал он.
— Если ты быстро встанешь, Давид, мы еще успеем сходить и вернуться, — поторопила она. — Времени вполне достаточно.
Они умылись, выпили чай, оделись и вышли из дому. Маленькие, быстрые, они спрямили себе путь, пройдя еще влажными от росы, невозделанными полями, что простирались тогда между отдельными кварталами города, миновали большой каменотесный двор Абуд-Леви, где между грудами камней уже горели костерки, над которыми грелись шершавые руки каменотесов, а оттуда спустились вдоль каменной стены ашкеназийского дома престарелых, от которого сегодня не осталось и следа — его большие деревья давно выкорчеваны и превратились в пламя, его камни разобраны и превратились в новые дома, а его старики похоронены и превратились в прах.
И тут, на склоне холма, где находился Дом сумасшедших, «Эзрат нашим»[16], в те времена стоявший у въезда в Иерусалим, точно дорожный знак пророчества и предостережения для всех, кто приближался к городским воротам, Мать остановилась и сказала: «Смотри, Давид, отсюда хорошо видно, давай присядем на скалу и поглядим».
Прямо под ними расстилался небольшой жилой квартал с красными черепичными крышами, а слева шумел автобусный гараж. Механики уже заводили двигатели «шоссонов»[17], чтобы прогнать их вхолостую для разогрева, и отвратительный запах застывшего машинного масла поднимался в воздух, отравляя утреннюю чистоту.