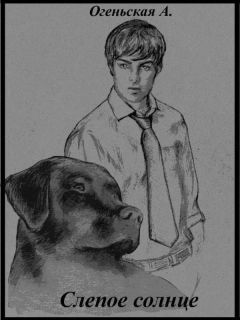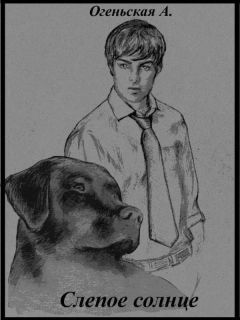Анатолий Рясов - Прелюдия. Homo innatus
Уже на самой ранней стадии автономное развитие инстинктов замораживается. Вся полифония неизменно сводится к одной ноте. Усвоение выработанных спектаклем эталонов поведения и методические упражнения в смирении становятся обязанностью. Другой стремится организовать твой опыт. Другой считает законы своей тщедушной жизни матрицами вселенского бытия, не осознавая и даже не пытаясь понять, что это правила лишь того жалкого, ограниченного пространства, в котором он существует. Все, что не вписывается в эти рамки, рассматривается как вредное и опасное.
Предтечей спектакля следует считать эдикт Константина. Концепт первородного греха инициировал отношение к новорожденному как к существу, нуждающемуся в постоянных инъекциях представлений о «хорошем». То, что ты вкладываешь в сознание младенца, — и есть добро. Свои прихоти ты превращаешь в его идеалы, свои заикания и запинки — в его красноречие, свое самодурство — в его заповеди, своего невежество — в его эрудицию. Так повелевает спектакль.
Подражание как единственная форма ориентировки в мире постепенно превращается в ритуал. Пассажир получает предмет готовым, не предпринимая никаких усилий для его конструирования. Эта подделка отныне заменяет подлинный мир. Но иногда ребенок продолжает ожидать своего рождения. И это желание обрести подлинность, если оно каким-то чудом сохраняется, на самом деле, представляет собой стремление ее не утрачивать.
В сарае всегда было пыльно и темно. И еще здесь всегда отсутствовал порядок. Сколько ни пытались систематизировать всю хранившуюся тут столярно-огородную утварь, это неизменно ни к чему не приводило. Лопаты, вилы и фуганки опять оказывались свалены в одну кучу, ящики с гвоздями и шурупами снова были раскрыты, с потолка, угрожая обрушиться, свисали старые автомобильные покрышки, в углу лохмотьями скапливалась малярная и строительная одежда, на стеллажах косматилась стекловата, ноги спотыкались о рулоны рубероида, из плохо закрытых баков капала краска, на одном гвозде с пилой запросто мог висеть автомобильный насос или дырявый чайник. Все это чем-то напоминало сваленный в кучу реквизит развалившегося театра.
В самом дальнем углу сарая на горсти битого кирпича стояла старая детская ванночка, до краев наполненная золой. Осенью золу высыпали на грядки как удобрение. Мы с соседским мальчишкой Игнатом любили забираться в дальний угол сарая, рядом с ванночкой, и сидеть там. Это исконно было связано со страхом. Изредка к нам присоединялась младшая сестра Игната, и мы пугали ее всякими шорохами в темноте, уверяя ее, что это копошатся крысы. Когда же она отсутствовала, страх возвращался к нам самим, и мы начинали вздрагивать от каждого звука — шуршания пленки или грохота шишки, упавшей на старый шифер крыши сарая. Мы наслаждались этим испугом, но это был второстепенный страх. Ведь мы сидели и ждали, пока кто-нибудь из взрослых зайдет внутрь. И нашей главной целью было остаться незамеченными.
Больше всего нам хотелось стать совсем крошечными и спрятаться между гвоздей или гаек, превратиться в оловянных солдатиков. То, что вошедший мог бы направиться в наш угол, было маловероятно, но заметить нас все-таки было не так уж сложно, ведь, вдобавок к просветам из трещин в старых стенах, солнце било и из настежь распахнутой двери темного сарая. И эти яркие ленты, в которых вовсю резвились хлопья пыли, извивались огненным серпантином прямо у наших ног. Мы, как тени, вжимались в стену, прислоняясь к шершавым, пахнущим смолой доскам, и пристально следили за вошедшим. Мы часами просиживали в темноте. У Игната была очень большая семья — и почти каждые пятнадцать-двадцать минут кто-нибудь из взрослых заходил в сарай за граблями, отверткой или топором. Это было составным элементом игры, которую мы озаглавили глаголом «следить». Обычные детские игры нас тоже привлекали, но быстро надоедали, а в запретных азартных (вроде карт) мы еще плохо разбирались. Сидеть в сарае, впрочем, нам тоже не разрешалось, это преступление было равнозначно чтению книг под одеялом (при помощи фонарика). Но запретить можно что угодно, кроме фантазии. Поэтому мы изобретали свои игры — наподобие той, что назвали «следить». В ней весь мир четко разделялся на посвященных и непосвященных. Посвященных было двое (младшая сестра Игната никогда не любила «следить» и не понимала смысла этой игры). В качестве непосвященных фигурировали все остальные, ибо посвятить их в нашу игру было невозможно по определению. Когда они замечали нас, прятавшихся в кустах, они никогда не могли понять, почему мы сразу же начинали убегать. Им все это казалось странным хулиганством, заслуживающим наказания. На самом деле, быть замеченными означало потерю игры. Это никак не было связано с темой «разведчиков» и тому подобной ерундой. Нет, мы не выполняли никаких «спецзаданий», мы со скрупулезностью патологоанатомов исследовали вселенную непосвященных. Игра была нашей сокровенной тайной.
Я еще помню это ощущение. Едва ли я смогу забыть его. Оно слишком въелось в память. Оно слишком натурально. Это было моим первым столкновением со спектаклем. Ощущение огромных чужих предметов. Огромных и бессмысленных, иссохших, застывших в своем значении. Окаменелые предметы находились повсюду. Груды барахла загромоздили все свободное пространство. Мертвые, застывшие статуи. Такие обычно располагают на витринах. Они ценны именно тем, что не сдвигаются с места. Когда я смотрел на них, я испытывал не только ужас, нет. Это чувство сложно определить одним словом. Ужас в нем тоже присутствовал, но наряду с любопытством, окрашенным опасностью. Любопытство и страх постоянно чередовались и наслаивались друг на друга. Именно это неясное переплетение и порождало мое сомнение. Я воспринимал эти предметы как неправду, как опасное, гибельное приключение. Они не были похожи на настоящие, на подлинные, на существующие. Когда же предметы начинали двигаться, это неизменно производило на меня ошеломляющее впечатление — настолько неестественно они подражали живому. Я не верил, что они могут представлять собой что-либо, кроме декораций, скрывающих подлинное. Мне всегда хотелось разрушить их. Услышать, с каким грохотом они свалятся на пол. Так в унылом, скучном, до смерти надоевшем зрителю спектакле появляется новый герой, отсутствующий в заявленном списке действующих лиц. Незваным гостем врывается он на сцену, разбудив зрителей, доводит до инфаркта режиссера, приводит в ужас коллег-актеров. Нарушив яростным криком их привычный пыльный покой, он мешает им талдычить заученные реплики. Мне казалось, что в один момент обязательно должен выйти кто-то, кто рассмеется вместе со мной над нелепостью спектакля, над грубостью и вульгарностью помпезно-безвкусного обрамления безжизненной чепухи, над декорациями пустого времени, над бессмысленностью мира взрослых.
Я обожал строить башни из всех попадавшихся под руку предметов. В роли строительного материала могли выступать деревянные чурбаны, пустые пивные банки и бутылки, игральные карты, ржавые железяки. Мне нравилось сооружать из всего этого барахла странные бесформенные конструкции. Но еще большее, почти маниакальное удовольствие я получал от разрушения собственных построек. Мое творчество достигало своего апогея именно в момент разрушения: кульминационным моментом всего строительного процесса становился миг, когда я заставлял башни рухнуть. Я не любил, когда они падали случайно — от ветра или от моей неловкости, нет, разрушение должно было быть осмысленным. В момент распада они получали свое второе рождение. Мне было почти до слез жаль разрушать собственные постройки, но я всегда испытывал потребность в повторении акта деструкции, в навязчивом возвращении к болезненному переживанию. Но при этом я готов поклясться, что впечатление от игры всегда было новым, неожиданным, и именно поэтому она никогда не надоедала. В момент падения Эрос и Танатос обретали магическое слияние.
Крик — это первофеномен смысла. Крик создает игру. Игра рождается из тяжелого душевного потрясения, из отрешенной тоски, и она начинает противостоять духу серьезного, который с древних времен правит миром. Импульс игры — носитель освобождения. Игра не связана с выгодой, она не заключает в себе принуждения, не вмещается в пределы рациональности, она вне разума, она не целесообразна. Детству неведомо желание наживы. Игра — это бунт против приказов спектакля, и потому она всегда сопряжена с опасностью. Это способ уничтожения повседневности. Вдохновение стремится охватить все жизненное пространство, одновременно являясь поиском этого пространства. В игре переживания и эмоции стремятся обрести подлинность. Омертвелые предметы, поставленные в неожиданные обстоятельства игры, наделенные новым языком, могут выявить в этом мистическом преображении свою вторую жизнь, серьезное становится несерьезным и наоборот. Участвующий в игре видит все предметы иначе, чем те, кто остается за ее пределами. Когда он, прищурившись, смотрит на них сквозь свои пальцы, эти серо-желтые декорации начинают сверкать как калейдоскоп. Игра дарит блаженное ощущение свободы. Освобождаясь от повседневных функций, предметы сказочным образом оживают и превращаются в метафоры (и сам язык игры защищает их от лжепонимания). Ведь любая вещь — это вовсе не то, чем она кажется. Игра исцеляет предметы, сдувает с них пыль спектакля. Игра всегда связана с загадочным и пугающим риском, ведь это тяга к тайному и запретному — тому, что выходит за пределы повседневного мира. Исключительное значение в игре приобретает фантазия. Фантазия полностью свободна от власти принципа реальности. Простые слова наделяются новым смыслом. Привычные понятия обнаруживают новые оттенки, не существующие для других — тех, кто не посвящен в игру. Здесь впервые рождается пластика духа — мускул жеста, он появляется как продолжение крика, как движение, указующее на него. Рисунок становится символом крика, а слово — его знаком. Крик всегда незримо присутствует в игре, которой приходится искать новые формы его воплощения. Впрочем, формально крик не запрещен. Просто он никогда не будет адекватно воспринят окружающими. Спектакль вообще мало что запрещает: все построено таким образом, что никому не придет в голову совершить что-либо непривычное. Спектакль не станет бороться с тем, кто не мешает, кто не представляет опасности. Но игру спектакль, разумеется, стремится уничтожить или, по крайней мере, максимально ее локализовать, интегрировать ее, он делает все, чтобы превратить игру в подражание или, хуже того, — в состязание. Понятия выигрыш и проигрышне имеют никакого отношения к игре, они были искусственно внедрены в язык с целью ее уничтожить. Спектакль переворачивает все с ног на голову, чтобы подлинное расценивалось как притворство. Повседневность ужасно боится проблесков живого, повседневность страшится подлинного, и поэтому она разработала множество ловушек, множество псевдотайн. И только упрямый следопыт способен разгадать их и продолжить поиск подлинного среди манекенов и декораций.