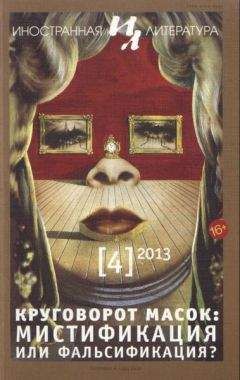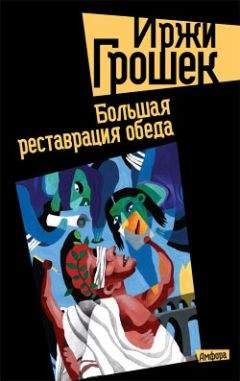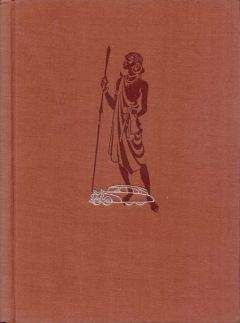Иржи Кратохвил - Бессмертная история, или Жизнь Сони Троцкой-Заммлер
Это была длинная и скучная речь. Но я решилась выдержать ее до конца, хотя уже и начинала уставать, ведь я была известная егоза, так что матушка частенько называла меня Wetzteufel[4] или Rutschpeter[5], а папа, наоборот, ЧУДЕСНОЙ МОЛНИЕЙ, поэтому я уже несколько (а если угодно, то и изрядно) извертелась, и, продлись все это еще какое-то время, я бы наверняка просверлила, точно буравчик, пол капитанской каюты, и тогда наружное давление высосало бы капитана и дирижабль бы упал. Но, слава Богу, длиннющая речь подошла к концу. Сразу после этого они приступили к делу.
— Не бойтесь, больно не будет, — поспешил уверить меня слепец.
После этого наконец пришел черед второго старца. Как, вы уже о нем забыли? Это тот, с седыми волосами, аккуратно зачесанными назад, так походивший на композитора Ференца Листа, чей вдохновенный портрет я видела у мадам Бенатки на улице Августинцев, 9. Но на самом деле — слушайте, слушайте! — он оказался прославленным невропатологом, терапевтом, психиатром и гипнотизером Жаном Мартеном Шарко, и его гипноз должен был послужить сейчас своего рода деревянной палочкой, какой при откорме гусей пропихивают куски теста им в зоб: вот так и мне предстояло «проглотить» послание мудрых старцев минувшего столетия.
Кто-то куда-то вышел и принес два предмета, напоминавшие двух больших расплющенных жаб. Потом этот человек опустился на колено перед одной из них и принялся надувать ее, пока наконец не возникло большое старинное кресло в стиле Людовика XVI. Это было чудо надувательской техники! Затем он надул второе кресло, и я поняла, что даже на таком огромном дирижабле, как «Жан-Жак Руссо» (разве я еще не сказала вам, как назывался дирижабль? так вот, теперь вы это знаете и, исходя из названия, уже можете наперед догадаться о воспоследовавших грозных событиях), итак, что даже на этом чудовищном дирижабле недоставало места для того, чтобы там могли хранить старинные кресла в натуральную величину. В одно из надутых кресел усадили меня, а в другое — напротив — сел доктор Шарко. При этом кресла придвинули так близко друг к другу, что, если бы я не вжалась в спинку своего, мы с Шарко соприкасались бы коленями.
— Успокойтесь, милое дитя, — сказал мне Шарко на грубом немецком. Ничему-то, подумала я с раздражением, не научился этот глупый академик у Зигмунда Фрейда. Я полагала, что, раз уж они встречались (в 1885–1886 годах Фрейд жил в Париже и слушал там лекции Шарко), то мой нынешний собеседник мог бы по крайней мере перенять у Фрейда элегантный венский выговор.
— Вас что-то гнетет, милое дитя? — продолжал Шарко на этом своем убийственном немецком. — Пожалуйста, избавьтесь от этого. Ибо, если вы не избавитесь, мы не сможем вас загипнотизировать. Итак, выкладывайте! Давайте, давайте! Пум! Пум!
— Меня мучит только одно: что я не знаю, когда родился Томас Алва Эдисон.
Шарко оглянулся на остальных.
— Мне нужен только год рождения — и ничего больше, — уточнила я.
Но так как никто из присутствующих его не знал, слепой капитан протянул руку к внутреннему телефонному аппарату и в его трубу передал мой вопрос на все палубы дирижабля.
— Можно еще отправить депешу по Эдисонову телеграфу в Нью-Джерси и спросить у самого Эдисона, — предложил Шарко.
— Нет-нет, этого не понадобится, — отмахнулся полуживой старец, — ответ уже есть. Томас Алва Эдисон родился в 1847 году!
— Слушайте, барышня, и раз навсегда запомните: в 1847-м! — повторил Шарко. — Теперь вас ничто не угнетает, и вы можете расслабиться.
Сейчас, дорогие мои, я многое отдала бы за то, чтобы поглядеть на саму себя, пятилетнюю девочку, которая сидела там напротив почтенного доктора Шарко, чьи глаза сверкали, как у ягуара. И я многое отдала бы, о радость моя, зеленые мои рощи, лишь бы увидеть, как я погружаюсь там в гипнотический сон, а надо мной, точно над котенком, свернувшимся клубочком в кресле, покачивается змеиная головка старого Шарко, диктующего мне в моем гипнотическом сне послание, которое я должна пронести сквозь все наше двадцатое столетие… а потом доктор запирает его во мне на три поворота ключа.
Само собой, содержание этого послания мне неизвестно, и я не знаю, какой ключ к нему подходит. Ну, да оно само выйдет на свет Божий, когда настанет время! А время это настанет, когда я встречу кого-то из двадцать первого века, кого-то из третьего тысячелетия. И мне кажется — а теперь следите хорошенько за моей мыслью, — что скорее всего это опять будет какая-нибудь пятилетняя девочка. В году этак 2005. Не раньше.
Может быть (не хотелось бы разочаровать вас, если вы до этого доживете), оное послание содержит лишь ничего не значащее приветствие людей конца девятнадцатого века людям начала века двадцать первого, что-нибудь вроде «Привет-привет, пока-пока!». Но возможно также, что в нем заключено некое важное сообщение, которое до поры до времени нельзя обнародовать и которое способны воспринять только внуки наших внуков. Иногда меня, конечно же, одолевает искушение докопаться до смысла этого послания. Но увы! И потому мне остается только надеяться, что я доживу до того момента, когда это послание отделится от меня, подобно мокроте и слюне, или выстрелит, как пробка из бутылки шампанского, пум-пум, как сказал бы доктор Шарко.
(Но ты единственный, мой Бруно Млок, знаешь, что все это столетие я бегу навстречу тебе одному! И что это послание ко мне просто прицепили, примерно так, как вешают номер на скаковую лошадь!)
Весь день, весь вечер и всю ночь мама с папой искали меня, а потом, маленькие мои глупыши, они привлекли к поискам имперских жандармов в касках с плюмажами. Я же вернулась домой на следующее утро с черным кровяным супом и полной корзинкой ливерной колбасы, и вдобавок с высунутым языком, потому что взбираться с такой поклажей по лестнице — это вам не шутка.
И как только мама открыла мне дверь, я набрала полную грудь воздуха и выпалила: «Эдисон родился в 1847 году!» Но, боюсь, она меня не поняла. Увидев, что я стою перед ней с кувшинчиком ароматного (изрядно приправленного специями) кровяного супа и с корзинкой, с верхом наполненной колбасой, она потеряла сознание и начала медленно опускаться на пол, но папа, как и всегда (или почти всегда) бывало в ее жизни, подоспел вовремя, чтобы подхватить ее на руки.
(Суп же этот, спешу я вам доложить, был вовсе не от Горачеков. Прежде чем высадить меня из дирижабля, они там в мою честь зарезали свинью! А все свиньи на дирижаблях были в высоких чинах, вот и эта наверняка доросла до полковника. Сделанные из нее колбасы походили на руку, поднятую в воинском приветствии).
(Ах да, и еще кое-что. Знаменитый невропатолог и гипнотизер Жан Мартен Шарко, к несчастью, умер еще в 1893 году и потому вряд ли мог гипнотизировать меня на дирижабле, плывущем над Брно в 1905-м. Значит, это был кто-то другой, загримированный под него. Как это трогательно! То послание мне, видимо, должен был передать весь цвет ученой мысли девятнадцатого века, так что без Шарко никак нельзя было обойтись. Но почему в таком случае там отсутствовал Томас Алва Эдисон? Я этого не понимаю, да и вам не советую пытаться понять. Я вновь и вновь повторяю: стремление всякий раз понять все без исключения достойно жалости и презрения).
5) Таинственный огонь
В 1908 году, по случаю юбилейных торжеств в честь семидесятилетия Северной дороги императора Фердинанда, батюшку пригласили в Вену и на венском вокзале сфотографировали вместе с группой машинистов на фоне знаменитого паровоза «Аякс» (изготовленного английской паровозной компанией «Джонс Тернер и Эванс» в английском городе Уоррингтоне в 1841 году). Но сзади стоял еще и самый на тот день современный четырехцилиндровый паровоз Гельсдорфа с осушителем пара, и сочетание в одном кадре этих двух махин придало фотографии живость и драматизм. Батюшка поместил снимок в рамку и повесил его на стену рядом с написанной маслом картиной, изображающей въезд в железнодорожный туннель на альпийском перевале Земмеринг.
Но тут требуется кое-что уточнить: батюшка никогда не водил паровоз «Аякс», потому что попросту не мог — его сняли с производства еще в 1874 году. Задолго до того, как батюшка стал машинистом. На этой фотографии он все еще самый молодой среди машинистов.
Когда в начале восьмидесятых годов прошлого века мой дедушка Лев Константинович Троцкий направлялся со своей благородной миссией в Америку, то делал он это под влиянием глубокого религиозного чувства, которое определяло всю его жизнь и которое после смерти его жены сменилось неистовым мистицизмом. Батюшка унаследовал столь же неодолимую склонность к мистицизму, какая присуща провидцам, пророкам и святым мученикам, но в его случае она обратилась на паровозы. Стоило ему впервые увидеть поезд (еще совсем мальчишкой где-то в русской степи, если хотите — в пустыне, месте Божественных откровений), как по всем жилкам его детского тельца пробежал таинственный огонь, и не было больше на свете силы, которая заставила бы его отречься от мечты сделаться машинистом. И он стал им в двадцать один год (за пять лет до моего рождения), что по тем временам было совершенно неслыханным, если учесть, что будущий машинист обыкновенно для начала долгие годы работал слесарем (вроде как ходил в подмастерьях), потом ему доверяли паровозную топку, и он много лет служил кочегаром, после этого ему разрешалось перегонять и сцеплять вагоны, и лишь затем он сам начинал водить поезда, причем сперва лишь товарные, позднее, когда он набирался опыта, — пассажирские, и гораздо, гораздо позже его допускали к скорым. Так что поверьте, стать тогда в двадцать один год машинистом было равносильно тому, чтобы в двадцать пять получить звание армейского генерала — с той лишь разницей, что если второе иногда все же случалось, то машинист в возрасте двадцати одного года был в истории австро-венгерской железной дороги всего один. Столь стремительное продвижение по службе стало возможным только благодаря просто-таки поразительным способностям, развившимся у батюшки из-за его таинственного дара. Всем, да-да, всем до единого было ясно, что перед ними — машинист от Бога. Это выразилось и в том, что он никогда не стремился сделать карьеру в железнодорожном министерстве, а хранил верность своему паровозу. Он был для него альфой и омегой существования, его выбором, его судьбой.