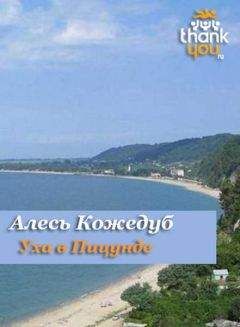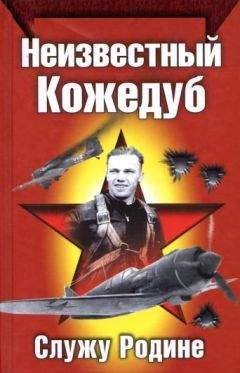Юрий Алексеев - Алиса в Стране Советов
Дипломатические разговоры с Ерёмкиным, естественно, состоялись на парадном трапе «Титаника», сохранившем остатки цветных стекол, причудливо отражавших «высокие стороны», и при молчаливом участии театрального гобоиста Сушкина, прикорнувшего сладким от портвейна калачиком возле нетопленой батареи.
Впоследствии Сушкин всячески утверждал, что именно он придал делу успех. И в этом была доля правды. Значительная. Пока Ерёмкин векселя раздавал: «Корпоративность… гуманитарное эгалите в рамках фратерните… мы вас испанцем сделаем… А пожелаете — так и французом…» — Сушкин ни звука не издавал, не мешал слушать. А вот когда Ерёмкин грудным голосом вскользь ввинтил: «МГИМО всё-таки вуз политический», — Сушкин головой о железо ударился, взвыл, и Иван тонкий намёк на толстые обстоятельства пролопоушил, проспал.
Так ко всем приключившимся за день случайностям добавился ещё и зевок — опасный и в далях не предсказуемый, даже если ты Колчаку не служил.
Глава II
…А сон — нет же, не Сушкина, а Ивана — длился, и дикторша ВДНХ не унималась, подсадной уткой крякала:
— Вас ж-ждут, ж-ждут! Павильон Гармоничной личности! Девочка плачет и оч-чень надеется… Алиса в растерянности!
«Не поддавайся! — приказал сердцу Иван. — Тебя не касается. Мало ли девочек по стране плачут? Между прочим, приезжие обожают дочурок позвонче назвать, чтобы сопливость не так в глаза бросалась… Анжелика, Джульетта, Алиса — это чтобы платка в приданое не давать, когда вымахнет. Нет, не твоя она! Твоя нюни не распускает. Да и вообще, кто «очень надеется», тот не плачет, а злится».
По-писательски Иван, может, и правильно рассуждал. Сердце сердцем, а голова на кассу работала. Но непослушные ноги работали ещё лучше. И он сам не заметил, как очутился возле фонтана Дружбы с его пятнадцатью насвежо позлащенными девами-республиканками[7].
Толчея здесь была ужасная. Распорядитель с повязкой кричал: «Дорогу тачанкам!» и «Держите мерзавцев!». В «мерзавцах» значились двое чудиков в тюбетейках, успевших прихватить «золотца» с девушек и теперь обтиравших на бегу о себя руки, от чего халаты их сделались наполовину ханскими.
«М-минутку! Выходит, “не лезьте к девушкам!” — взаправдашнее? — занервничал Репнёв. — Так что же, и Алиса и прочее не понарошку… так прикажете понимать?».
Иван протиснулся поближе к фонтану и влез для ориентировки на бортик. Вода из пенистых чаш била звонкими струями, сверкала, как свет опрокинутых люстр Колонного зала. А в вышине над ними, как бы закрюченные за облака, висели два транспоранта:
«КОСМОС НАШ!» И «НЕБО ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!»
Последний не вызывал сомнений. Он намекал на загробную жизнь. А вот насчёт «Космоса» могли быть разнотолки.
«Погорячились! — снисходительно оценил Иван в дурной манере не в своё дело соваться. — “Космосом” — это уже как пить дать! — нарекли где-то однопартийный дом отдыха или валютный бар для астрономически состоятельных. Так зачем же народ дразнить погудкой “НАШ”? “Крепите и умножайте Космос” — вот как надо, чтобы не отступиться от норм».
Будь то единственным отступлением, Иван дальше и ухом бы не повёл, не дал подозрениям развиться. Так нет же! Прифонтанную площадь окружили двурядно канатами, и на кольцевой просеке появились тачанки с по-настоящему пулемётами. Толпа не дрогнула. Не растворилась. Послышался сдавленный вскрик: «Дают!?».
— Тра-та-та-та, — ответили пулемёты, никого не скосив. И, загрузившись детишками вкупе с родителями, лошадки пошли по кругу зоопарковым тротом. За ними шлейфом тянулся дымок, потрескивали военные кастаньеты. Ничего страшного. Жеребчики оскоплённые. Выстрелы холостые. Обыкновенный комсомольский пудрёж — «преемственность поколений». Смущало другое. Пассажиры каталок держались прибито, скукоженно. Да и стрелки-возницы — видать, солдатики-первогодки — не возмужали от нахлобученных на них шлемов а ля Перекоп, не возомнили себя героями, и как-то блудливо оглядывались по сторонам, будто махновцы, грабанувшие церковь. А позади тачанок дуэт просившихся на живодёрню одров тащил остатней добычей некрашеный гроб, тележил нечто невообразимое. На боковине гроба было написано углём «Америка», а на крышке самоуверенно восседали Неважнокто — огрузлый, с баранкой в глазу, и Хотьбычто — в настоящих очках и похожий на Дуремара. Впрочем, телесный покрой и внешность не имели значения. В движении по кругу за кучера мог быть любой. И отпусти они вожжи или возьмись за кнут — их управление на результат не влияло. Путь был однолинейный. Ни шага в сторону.
Сейчас одров Неважнокто понукал, а Хотьбычто ютился на облучке и раздавал направо-налево воздушные шарики всё с той же меткой «Небо принадлежит…». Люди молчком, со спёртым дыханием бежали за гробом, хватали шарики нашарап, и лишь какой-то один оттеснённый базарил:
— Я, может, тоже как собака устал, а в космос первым меня не пустили.
«Он прав, — подумал Иван, зная повадку граждан требовать лишка в обгон крайне необходимого. — Наш человек должен быть первым. А его на Луну не пускают, гондолируют тех, кто понахальнее».
Шар обделённому всё-таки достался. Кривой и длинный. Но он, негодник, в небо на нём не пошел, «нечаянно» сделал ба-бах, поднял ошмёток за ниточку и пробурчал «Баковка»[8], что было намеренной клеветой, поскольку в рабочем виде «Баковка» держит давление в пять атмосфер, а в успокоенном, ежели в рогатке, убойно бьёт на пятнадцать шагов.
«Отвергать, не попробовав, — такое усталостью не объяснишь, — укрепился в подозрениях Иван. — Этих, что на гробу и с пулеметной охраной, я чётко воспринимаю. Неважнокто любят быть на людях неважно где. Они, халатом не брезгуя, даже в хлевах нетелям хвосты задирают в контроле за правильностью питания, поскольку оно всегда неправильно. И Хотьбычто хоть бы хны, чего и где кому раздавать, кому какие шарики вкручивать. Важно быть в гуще событий. Но… сама гуща сегодня какая-то не такая. И та и не та…».
Иван всегда понимал охотников к пулемёту прильнуть, слетать на полюс ли, на Луну, лишь бы трудно. Народ приучен стрелять и мечтать. Однако где трудно — там и «ура!». Непременно. Вне зависимости от побед. Без галдежа и праздник не в праздник. А нынче люди давились за шариками и вспрыгивали на подножки тачанок молча и механически, будто вернулись только что из затяжного с сухим пайком похода и по приказу ротного затеяли теперь побегушечки, «через не могу» гульбу. Круговерть, конечно, была. Не без этого. Но в заварухе хоть бы кто кого назвал сволочью или засранцем. Ни потасовок, ни матерщины — хотя Неважнокто пример тому подавал, потакал, — ни даже «ты меня уважаешь?». Лица людей были одинаково плоскими, одинаково неустремлёнными, что уже отнимало повод к скандалам, к выяснению, чья морда «кирпича просит». Ни «ура!», ни «караул!» Даже к девам златым — память гвоздиком о себе оставить — никто не лез, что и навело Ивана на мысль:
«Господи, да не сон ли это? Неужто “каждому по труду” достигло “каждому по шару” и — ни гугу, приехали. Не забежал ли я как-нибудь огородами в Будущее, предсказанное Хотьбычто… Ну, самым краешком, зачуток?».
— Ты что, слепой или дурной? Руку дай, педераст! — замарал мысль Неважнокто. Каким-то образом он незаметно внизу очутился, влез животом на бортик фонтана, но дальше мешали штаны, в каких, по его же грубым словам, пол-Европы, не трудясь, разместилось бы.
Иван не то чтобы оробел, но им овладел порыв к поддакиванию, к услужливости, какие бывают, наверно, при встрече с обер-пиратом, когда на мачте захваченного фрегата уже повешен свеженький флаг, а рея покамест свободна…
— Трудное детство… плохо было с морковью, — пробормотал он, делаясь самому себе гадостным и вспомогая огрузлому приподняться, вместо «пшёл бы ты!». А тот, отдувшись и пропыхтевшись, на бортике укрепился и проворчал:
— Моркоха на уши не отражается. Тебя что, радио не касается, или прохлопал по глухоте объявление насчёт девочки?
И как-то песенно загундосил, припоминаючи:
В лесу родилась тёлочка
От белки и осла, кхм, да,
Зимой и летом дойная
Кормила три села, кхм, мда…
Осёкся, посадил в глаз навроде монокля давешнюю баранку и посмотрел на Ивана пристально, многозначительно. Иван затаился. Песенка-перевёртыш была ему очень знакома, но он виду не подал, ждал, что дальше споётся, скажется. И толстячок не замедлил:
— У нас с Диаматом принципиальный спор получился, — молвил Неважнокто. — Он на летающую собаку опёрся. На Белку. Дескать, певчих поднаучили порочить космос. А я говорю, слова народные, мудрые… предусмотрительные. Допёр, что Белкой корову звали. Всё-таки пастушеское чутьё! К тому же ослы необычайно выносливы. Скрестим весною, и молока будет — залейся…