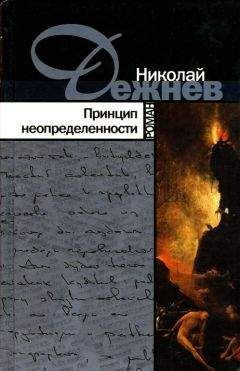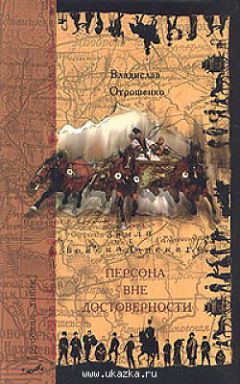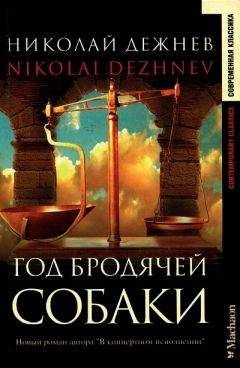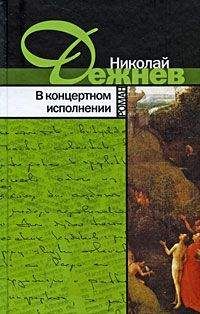Владислав Отрошенко - Персона вне достоверности
О своей ненависти к путешествиям и путешественникам Сальвадор говорил почти во всех интервью, и с особенной пылкостью, с какой-то грозной настойчивостью, — «прямо-таки с апостольским жаром», замечает Харузин, — в тех, которые он давал летом 1898 года на Всемирном состязании тамбурмажоров в Фонтенбло. На этом поистине историческом состязании — самом продолжительном в XIX веке и по числу участников не превзойденном до нынешних дней (2300 тамбурмажоров из 49 государств, включая Заскар, Бутан и Мустанг, оспаривали первенство) — Сальвадор, как известно, последний раз в жизни облачился в расшитый золотой канителью, щедро украшенный искрящимися галунами мундир фельдфебеля музыкальной команды и взял в руки тамбурмажорский жезл. Французские газеты писали потом, что он вращал и подбрасывал его, маршируя в течение десяти часов на плацу с отрядом неуемных барабанщиков и ротой неутомимых гренадеров, уже с нечеловеческой ловкостью — «с обезьяньей ловкостью», как выразился более определенно корреспондент бостонской спиритической газеты Herald of Truth: «Я не видел зрелища более восхитительного и ужасающего в своей непостижимости, — писал американец, — чем то, которое явила нам в Фонтенбло эта яростная и человеколюбивая горилла в позументах, воздвигнувшая где-то в сарматских степях России сумасшедший дом для военных музыкантов. Полагаю, что именно в этом доме, среди свихнувшихся валторнистов, флейтистов и трубачей, Сальвадор и закончит свои дни, ибо искусство его уже давно достигло тех лучезарных высот, выше которых простирается сфера чистейшего идиотизма!»
Этот велеречивый корреспондент из Бостона был, кажется, единственным из всех газетчиков, кто сумел взять интервью у Сальвадора сразу же после его десятичасового выступления на плацу. Во всяком случае, французские репортеры писали потом в свое оправдание, что нужно было иметь такие плечи, как у «le spirite de Boston»[7], и обладать закалкой жителя Нового Света, чтобы, во-первых, протиснуться к Сальвадору сквозь толпу почитателей и частокол из двухметровых гренадеров, а во-вторых, стерпеть неучтивость маломишкинского камердинера — скуластого горца в малиновом казакине с огромными эполетами, сопровождавшего своего прославленного господина в поездках и на предыдущие состязания и позволявшего себе на этот раз производить при виде знакомых ему репортеров уже совершенно оскорбительные телодвижения и звуки. Преодолев на зависть субтильным французам эти «les obstacles fasheux»[8] и оказавшись рядом с Сальвадором на маленьком островке, омываемом шумной, подвижной толпой, то и дело накатывавшейся ритмичными волнами на широкие спины и крепкие ягодицы невозмутимых гренадеров, американец задал великому тамбурмажору вопрос, с которым корреспонденты Herald of Truth обращались в тот год беспрестанно ко всем выдающимся людям, не исключая банкиров и знаменитых лореток: «Do you believe in astral travels of spirit?»[9] Сальвадор, хорошо владевший английским — «не хуже, чем русским, тибетским и итальянским», утверждает Харузин, — сумел, очевидно, расслышать в разноязыком гомоне только словечко «travels». Но этого-то как раз и было достаточно, чтобы желчный и своенравный старик, каким предстает Сальвадор в сочинениях авторитетных биографов и всевозможных воспоминателей, — в 1910 году даже его необузданный горец, не отличавшийся многословием и страстью к сочинительству, выпустил в Санкт-Петербурге увесистый томик своих беспорядочных воспоминаний, озаглавленных несколько фамильярно для бывшего графского слуги: «Мой бешеный Сальвадор», — чтобы старик, тяжело переживавший всякий выезд из дома, да к тому же еще возбужденный всеобщим к нему вниманием, повергся в то болезненное состояние духа, которое Харузин, повинуясь правилам исследовательской деликатности, назвал «апостольским жаром».
— Что?! Что?! Путешествия?! — закричал Сальвадор по-английски, подняв над головою жезл. — Да будут прокляты путешествующие! И да сгинут они с лица земли! Ибо они внушают нам, что мир бесконечно разнообразен! Они, уязвленные жаждой странствий, побуждают нас верить в ничтожество духа и невозможность покоя!.. Я проклинаю вас, путешествующие на верблюдах! на слонах! на ослах! на воздушных шарах!..
Боже мой, сколько лет я не был в Бутане! Сколько воды излилось с гималайских небес на царство Друк-Юла с тех пор, как я покинул его! Впрочем, здесь не многое изменилось. Подданные друк-гьялпо — да приумножатся дни его в этом мире! — по-прежнему носят пестрые кхо, перехваченные широкими поясами и отороченные парчой; так же улыбчивы и приветливы монахи в пурпурных тогах; неразговорчивы и медлительны горделивые воины гьялпо в шелковых длинных халатах, перетянутых накрест шарфами изумительной белизны! Все с тем же неумолкаемым рокотом течет по наклонной долине бурноводная Мачу; как и прежде загадочны и торжественны каменные чхортены по ее берегам; и все так же трепещут на башнях дзонга молитвенные флаги во славу просветленного… О, Бутан, Бутан!..
Мачу еще не вышла из берегов: муссонные дожди только начались. Однако весь королевский двор, множество монахов, тримптон и дзонгда Пунакхи уже переселились в летнюю столицу. Уехал в Тхимпху и король. Очень жаль! Жаль, что его величество друк-гьялпо не соизволил — хотя бы еще на день! — задержаться в Пунакхе. Его присутствие на лекции наверняка привлекло бы в дзонг окрестную знать — влиятельных треба и почтеннейших рамджамов. Накануне я пытался уговорить одного из королевских секретарей, чтобы он убедил монарха посетить лекцию. Но молодой вельможа, отлично говоривший по-русски, был непреклонен. «Мачу через несколько дней превратится в ревущий поток, — сказал он, — а дорогу размоет не сегодня завтра. Я не могу допустить, милостивый государь, чтобы Его Величество король-дракон слушал здесь звуки ваших речей до окончания муссона, тогда как у него есть и более важные дела в Благословенной Крепости Веры…» Разумеется, я не стал выказывать королевскому секретарю своего неудовольствия, тем более что он тут же, без всякого перехода, но и без малейшей принужденности, как это умеют делать только бутанские придворные, чья обаятельность ничуть не уступает чудовищному высокомерию, сменил суровое выражение лица на самую теплую улыбку и вручил мне с почтительным полупоклоном долгожданный кашаг, скрепленный печатью Его Величества с изображением молнии и двух драконов, в котором говорилось, что мне, «ученому человеку с Запада», дозволяется изложить в дзонге Пунакха, «пока будут шуметь в долинах Друк-Юла большие дожди», свои размышления о любом предмете. На деревенского рамджама, замещающего на время муссона тримптона зимней столицы, бумага произвела неотразимое впечатление. Старик долго охал и цокал языком, рассматривая ее, а затем объявил мне с чрезмерной торжественностью, что он предоставляет в мое распоряжение самую пышную залу — в южной части крепости. При этом он стал заверять меня, впадая в необычайное воодушевление, что в этой гигантской зале с оранжевыми потолками и целым лесом разноцветных колонн все способствует углубленному размышлению — и огромные статуи будд, покрытые золотом, и яркие фрески, и тибетские вазы, и воспроизведенный сто восемь тысяч раз на вазах, колоннах и статуях текст священной мантры: «Ом мани падме хум» («Благословенно будь, о ты, сокровище лотоса»). «Я позабочусь, — сказал он, — чтобы ни одна душа не проникла в залу, пока вы там будете размышлять, досточтимый!» Мне стоило немалых усилий объяснить рамджаму, что я вовсе не намерен размышлять в одиночестве и что я вообще не намерен размышлять. В силу того, что в его тщательно выбритой и бугристой, как перезревший гранат, голове безнадежно отсутствовали некоторые понятия, а в моем тибетском — некоторые слова, я никак не мог преодолеть того тягостного и непростительного, хотя и отчасти вынужденного косноязычия, которое с каждой минутой утомляло меня все больше и больше и приводило в замешательство старого рамджама, уже начинавшего сомневаться в моей учености. Мне не хватало на первый взгляд пустячка — слова «лекция» по-тибетски. Нет, конечно, латинские «lectio» — чтение и «lectito» — читать часто, усердно, внимательно — вполне поддаются буквальному переводу на сино-тибетские языки, как, впрочем, и «lector» — читатель, чтец. Но тибетского слова, которое обозначало бы акт публичного выступления на какую-либо тему, я никак не мог отыскать в своей памяти. В конце концов, уже совершенно отчаявшись, я сказал рамджаму по-тибетски, наперед осознавая всю нелепость и неуклюжесть наугад построенной фразы: «Я буду произносить слова, которые нужно слушать множеством чутких ушей, исполненных пустотою усердия». К моему изумлению, рамджам просиял. «О да! О да!» — воскликнул он…
— Проклинаю и вас, — кричал Сальвадор исступленно, — вас, карабкающихся по горным склонам, подобно вьючным животным! И вас, путешествующих на пароходах, в экспрессах и в экипажах! Я говорю вам: противны Единому ваши жалкие устремления к неведомому! И говорю вам: не отыщете вы неведомого во веки веков, куда бы ни перемещали вы свои непоседливые задницы и алчные глаза, опьяненные зрелищем форм!..