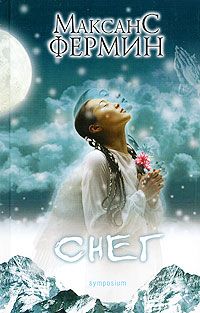Александр Половец - Мистерии доктора Гора и другое…
За три дня до конца командировки, когда служебные дела завершились, взял он билет на поезд, протиснувшись через толпу солдатских шинелей и телогреек, пропахших махоркой и потом, пристроился на фанерном чемоданчике позади ближней к тамбуру скамьи, задремал.
А спустя несколько часов он стоял уже на пороге небольшого, добротной кирпичной кладки, домишки и осторожно, но настойчиво постукивал в дощатый настил двери подвешенной к ней подковой. Сухонькая старушка, открыв дверь, испуганно окинула взглядом фигуру в солдатской шинели… «Здравствуйте… я внук Василия Ивановича, сын Зои…» Старушка отступила на шаг, прислонилась к косяку. Потом Володька с трудом поднимал ее с земли, отрывая ее руки от своих сапог, а она продолжала, цепляясь за них, припадая к ним лицом, причитать:
— Миленький, прости меня, разлучница я твоей бабушки! Прости меня…
В доме было чисто, на окнах стояла герань, стены пестрели картинками и фотографиями в аккуратно сколоченных самодельных рамках. Присели к столу. И почти сразу дверь снова распахнулась: на пороге ее встал огромного роста мужик. Лицо его, шею, часть проглядывающей в распахнутом вороте рубахи груди покрывали кирпичные пятна румянца — дед возвращался из парной. Сейчас он пристально и хмуро смотрел из-под нависших седых бровей на солдата, и во взгляде его явно читалось — за мной, снова арест… Володька поднялся, сделал, ставшими вдруг чужими ногами, шаг навстречу ему.
— Я сын Зои…
Дед распахнул тулуп, сгреб Володьку в охапку.
— Внучек, миленький, свела все же судьба, — целуя его, приговаривал он сквозь слезы.
На столе появилась водка, в дом набежали соседи — почти все они состояли в каком-то родстве между собой, почти все отбыли в лагерях или в ссылке немалую часть своей жизни.
Пили долго. Пили и пели — про разлуку, про горе, про загубленную жизнь. И плакали. Молодая женщина подсела к Володьке на колени, гладила его волосы, целовала. Муж ее уже тянулся к топору, быть беде… Разобрались, однако: приходилась эта девушка Володьке теткой, хотя и была всего на год старше его. К концу застолья, когда гости уже расходились, пошатываясь и обнимая за плечи друг друга, снял Володька с руки часы, отдал деду. А утром, проснувшись, увидел придвинутый к изголовью своей кровати стол, уставленный непочатыми водочными бутылками — это дед благодарил его за часы, составлявшие в те годы великую ценность. Да к тому же как раз сегодня исполнялось Володьке 20 лет — а что еще мог бы подарить ему дед?
Они снова пили, и дед, проводя рукой по седому ежику волос, всхлипывал и после каждого стакана спрашивал Володьку:
— Внучек, ну объясни — почему вся наша жизнь проходит в страданиях? И я страдал, и бабушка твоя, и мать, и все тетки твои…
И снова плакал — здоровый восьмидесятитрехлетний мужик, уложивший рогатиной не одного медведя в сибирских таежных чащобах.
Через год дед умер — так, безо всякой болезни. Говорили — просто устал жить. А Володька продолжал отбывать службу, не прерываемую больше никакими памятными по-настоящему событиями. Однажды, правда, случилось в наряде. Охраняя склады с аппаратурой, стоял он, зябко кутаясь в тяжелый тулуп, и прислушивался к ночным шорохам. Медленно, очень медленно тянулось время. Хорошо, что приходились на него такие дежурства нечасто: Володька боялся темноты, боялся одиночества — не диверсантов или грабителей, а именно этого — чувствовать себя крохотной песчинкой, погруженной в густую, вызывающую мерзкий озноб непонятного страха, пелену ночи. Услышав скрип смерзшегося снега под чьими-то ногами, он сбросил тулуп и поднял карабин. — Пальну раз для острастки, — мелькнула мысль, — а там — будь, что будет.
— Володя, ты где? — окликнул его знакомый голос.
Оказалось, приехал навестить его Генка Курячий, закадычный дружок, спортсмен, только что вернувшийся из отпуска. Недавно он выиграл чемпионат Уральского военного округа, съездил к родным на Украину, и сейчас его вещмешок топорщился бутылками с горилкой, шматами украинского сала, домашними пирожками и прочей снедью, которой снарядила его в дорогу родня.
До смены оставался час, оказавшийся вполне достаточным для походного застолья и обмена последними новостями. А новости были существенные — Генку пригласили в Киевский институт физкультуры, и он настойчиво уговаривал Рачихина подаваться туда же. Володька, вроде, был не против, но тогда его будущей профессией представлялась ему география. Да и не так уж часты были случаи, чтобы отпускали не дослуживших свой срок — а Володьке предстоял еще один, последний, год. К тому же, было время карибского кризиса, из военных частей перестали отпускать и солдат, и офицеров — даже в короткие увольнительные, не говоря уже об очередных отпусках…
И все же не дослужил Рачихин последнего года — на окружных соревнованиях тренер Ленинградского института физкультуры, объезжавший военные части в поисках талантливых спортсменов, предложил Володьке, имевшему к тому времени первые разряды по легкой атлетике и гандболу, поступать к ним. Друзья, собравшиеся на Володькины проводы, повторяли — вернешься в часть, руки не подадим.
Ленинград
И Рачихин не вернулся.
Как-то, за пару недель до вступительных экзаменов, сидел он на примятой влажной траве стадиона; концы наброшенного на голые плечи легкого полотенца полоскались на сильном ветру, ровно и упруго дувшем со стороны залива. Рядом на колышке болтались гимнастерка и галифе.
— Солдат, здравствуй!
Рачихин обернулся: перед ним стоял китаец, совсем молодой, низкорослый, в аккуратно застегнутой на все пуговицы полувоенной курточке и темно-синей фуражке. По-русски он говорил почти без акцента. Удивление Рачихина быстро рассеялось — китаец представился, объяснив ему, что четвертый год учится в Ленинградской академии художеств.
— Заработать хочешь?
Еще бы, деньги Володьке нужны были позарез: кормиться приходилось в столовых, иногда в ресторанах — когда собиралась компания, пришлось купить и кое-что из гражданской одежды…
Так Рачихин, еще не поступив в институт, обрел первую, действительно понравившуюся ему поначалу гражданскую профессию — он стал натурщиком. Китаец платил ему два рубля за час позирования — как позже оказалось, рубль он приплачивал Рачихину из своих личных денег, официальная ставка натурщика составляла 1 рубль в час. Позже уже, сблизившись по-дружески с Володькой и узнав, что тот — коммунист, он показывал ему дадзыбао, переводил их текст и довольно откровенно поругивал советский образ жизни: по бумагам, мол, у вас все правильно, а в жизни… Мысленно Володька соглашался с ним, но отмалчивался, не решаясь ни спорить, ни соглашаться вслух.
Возникали постепенно новые знакомства: Володька попал в довольно замкнутый круг художников-академиков, которые тоже приглашали его позировать — Томский, Аникушин. Работы прибавилось, появились лишние, вроде бы, деньги — но и уставать стал он сильно, доходя порою почти до предела своих сил после многочасовых тренировок: отстоять же еще три часа в классе казалось невозможным: тело деревенело, земля многократно увеличивала силу своего притяжения, и удержать руку, например, в заданном положении или просто сохранить требуемую позу стоило почти нечеловеческого напряжения. А утром — снова стадион…
Единственным просветом казалось тогда короткое знакомство с дочкой Аникушина. Володька стал часто бывать в его мастерской, роман с дочерью художника развивался в положенном ему русле, дело подходило к женитьбе. Экзамены в институт были к этому времени уже сданы, на кафедре легкой атлетики, куда Рачихин был принят, шли регулярные занятия. А судьба сделала очередной зигзаг — не без его, разумеется, участия: Володька, оставив позирование, стал актером миманса в Ленинградском театре оперы и балета. Режиссер труппы, коротко оглядев его спортивный торс, бросил на ходу — завтра будешь выносить Клеопатру!
— и Володька уже видел его быстро удаляющуюся в глубину кулис спину.
* * *Теперь Рачихин стал прирабатывать к своей тридцатипятирублевой стипендии еще 60 рублей. Двенадцать раз в месяц он, в курчавом парике и коричневом гриме, держал на весу носилки с Клеопатрой; балерина была сухощава и стройна, веса ее Володька почти не чувствовал, но кружилась голова — от близости почти нагого женского тела, от пряного запаха макияжа, смешавшегося с потом танцовщиц. Или, стоя в толпе статистов, изображавших римлян, он, опершись на короткий боевой меч, поигрывал мускулами обнаженного торса, ловя углом глаза одобрительные улыбки, посылаемые ему из женской массовки.
Однажды, в перерыве между сценами, «Клеопатра» сама подошла к нему, спросила, улыбаясь, что-то незначащее, вроде: «Новенький, а ты меня не уронишь?»