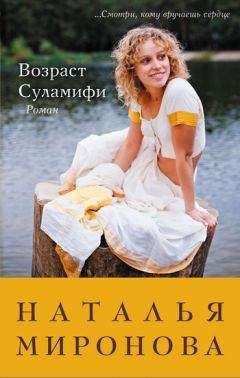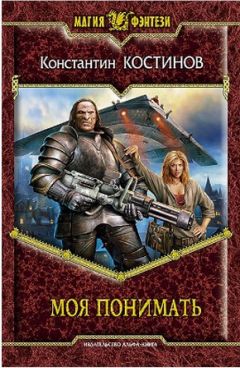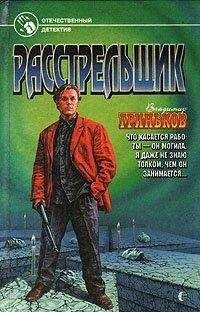Владимир Костин - Годовое кольцо
На Степановке, именно на улице Хмельницкого, утром третьего дня обнаружили окоченевшего мужчину: он упал, крепко подвыпивший, и заснул, прикрыв глаза ладонью, как от яркого света. Его шапка отлетела метра на два, и в ней нашли камень, оказавшийся воробьем, которому не помогло секундное тепло, переданное шапке теменем несчастного.
А вчера мне позвонила Анастасия Евгеньевна и рассказала, что звонарь Сережа из Казанского храма рассказал ей, что от мороза лопнул колокол: на вечерю, крючась на ветру, Сережа хватил билом как-то не в меру сильно, и отломился кусок, такой большой, что, падая, пробил перекрытие. В заключение она вздохнула: плохой знак, и не первый такой плохой знак. Надо из этого города уезжать.
Нетвердый в физике, я позвонил Сереже, и он с негодованием опроверг это известие. Сказал, что с Анастасией Евгеньевной вообще не общается целый год, потому что она врушка, а если его и отстранили на время от должности, то по совсем другому поводу. А по какому, не скажет — не хочет выглядеть ябедой, зато отцу-настоятелю в свое время будет сложно выкручиваться перед Господом за такую обиду малому ему.
Но морозы, добавил он, и вправду нехороши, зловещи. Не потому, что сильные, а потому, что серые. «Обратите внимание: всегда же чем студеней, тем солнечней, розовее. А тут с самого начала хмарь и скука. Как в остяцком аду».
Мы от такого холода поотвыкли. Легко, но уже без удовольствия припоминалось: подобное было лет 25 назад, когда утро за утром молодой я летел на службу, зажмурив глаза, обмотав лицо несвежим, прокуренным шарфом, перебежками — от порога до булочной; от булочной до подъезда столетнего дома купца Абдуллина, от подъезда до вестибюля пивного завода… И, наконец, страшный долгий марафон круто вверх по Горбатой улице, теперь в компании с другими обезумевшими согражданами, — а навстречу неслись рабочие пивзавода, они бежали легко, вниз, зато лицом к реке, им доставалось втрое, и они храпели, как кони, с облезлыми красными мордами.
На слепом бегу мы с ними часто сталкивались — бегущие сверху крепкие пролетарии сносили нас, как городки, на обочины тротуаров.
Но сегодня, не справясь по летописям, еще и встал густой туман. Сын проснулся раньше всех, до будильника, и пошел попальчиковать в кабинете без свидетелей. И оттуда разбудил нас криком: пустота, пустота! Глянули в окно — за ним действительно было пусто, зияло.
Я шел в молоке к трамвайной остановке и не видел ни остановки, ни школы, ни магазинов, ничего. Куда там, — выйдя из подъезда, я оглянулся: где Дом твой, Адам? Весь наш огромный дом растаял, исчез за мгновения без остатка.
Мир надо было открывать заново. При видимости в десять шагов все проступало в чудесной, обновленной отдельности, частями, и тут же затягивалось дымкой, засасывалось белизной, растворялось в колючей арктической тишине. И казалось: уши плотно заложены густой ватой тумана. Собственные шаги были едва слышны и не узнавались, словно шел не ты, а кто-то незримый рядом.
Да ходят ли трамваи, подумал я, но через вздох успокоился: ходят, куда ж они денутся? Потому что дошел до путей, до сквозняка и услышал слабенький, но почти непрерывный трезвон. Катясь медленно, наощупь, приближающийся трамвай извещал: я иду-иду-иду, тук-туки-тук, вы — раздайтесь, пропустите, жить хотите коль — замрите, а вас — могу сейчас принять на борт, за четыре бедняцких обола.
Невидимый никому, не стесняясь, я от души улыбнулся. Латаные-заплатанные, ломаные-пригорелые, за десятки лет навечно пропахшие маслом, старостью и пОтом, бурлаки-трамваи тянули свою лямку.
Вот остановка, вот группа лиц с поднятыми воротниками, а вот и трамвай с включенными фарами. Есть ли внутри туман? Нету внутри тумана, вместо него кратные облачка пара — людей много, и все они, кажется, и присмиревшие от хлада, но зато необычно говорливые, как на базаре. Что понятно: ведь каждый, заходя в вагон, невольно говорит что-нибудь вроде «Да-а, мороз, а летом-то было тепло» — и пошло-поехало.
Все заметно потучнели, округлились от всяких поддевок, оттого, что втянуты головы и поджаты конечности. Здесь красные лица напоминают о снегирях. В основном — о пожилых снегирях.
Ехать далеко — надо послушать людей. Как всякий русский лентяй, я люблю эти необязательные чужие разговоры. И, честное слово, не потому, что у меня длинный Аннушкин нос. Но и не потому, что ищу в них драгоценные россыпи житейской премудрости: тут вам не Африка. Здесь народ с годами, как правило, грубеет и костенеет душой. Куда там, в трамвайных собеседованиях замечательны как раз бесконечные репетиции одних и тех же корявых историй, выраженных в одних и тех же словах и припевках, что сложились задолго до моего рождения, в те годы, когда мой отец, направленный в Институт Красной профессуры, высадился, в кубанке и обмотках, на Курском вокзале и ввернулся в никогда не виданный им трамвай — переполненный московский трамвай, оттоптав ноги земляку-писателю, как выяснилось, по фамилии Платонов.
Но в этом-то все и дело. В этих повторах — свое волховство, оно надежно свидетельствует хотя бы о том, что мир не стал загадочней и хуже, чем он есть. Представить жутко, что трамвай однажды замолчит. Кто, какими будут его сдержанные пассажиры? И еще: случись чудо — заиграй теплый лучик над нашей замороженной землей, поверили бы мы в него, узнав про него из газет или нарочито-пылких речей? Ни за что. Дайте нам увидеть-услышать его отражение в трамвайной сутолоке.
Поначалу все шло как обычно. Две старухи разговаривали в сотый раз о том, как сына или внука одной из них не сумели спасти врачи. Он распил с товарищем бутылку метилового спирта и умер. Известно, что с такого количества метилового спирта вроде бы слепнут — это ладно, но более того? А тут умер. Конечно, врачи виноваты — дали что-нибудь не то или пустышку дали. Врачи удивительно бесчувственны и не знают ничего.
Вторую старуху надо было лечить от давления, а дали для давления. Или наоборот? В общем, чуть не отдала богу душу. Дари им коньяк, шоколадками заваливай. Вывод был простой: расстрелять хотя бы одного.
Похожий на щуку старик и мужчина с разбитым лицом, наверное, сын. Он рассказывает: «…И тут Лепехин заныл: оставь мне сотенку, на хлеб, молоко, а Иванцов ему дулю: сдохни!» Старик возмущен: «Хотел на жалость надавить, вот свинья!» (Назавтра я пролистал телефонную книгу и нашел в ней тьму Лепехиных и Иванцовых. Зачем? И не факт, что данные товарищи телефонизированы.)
Еще дуэт, прямо театральный. Измученная старушка, злая, но с гримасой улыбки на лице — и молодой паренек, явно освеженный наркоман. Он сидит, она стоит над ним с сидорами на весу, желая, но не смея обругать его за оккупацию места «для пожилых людей и инвалидов». Он насколько-то опасен, блаженно улыбается. Речь у него сусально-воровская, но глазки пугают.
— Устала, бабуска? — искренне сочувствует он, — много песком ходис, глус у тебя тязолый?
— Устала, сынок, — отвечает она, — тяжело мне, холод не чувствую.
— И я устал, — кивает он, — и стал бы, а не могу нипоцем.
— Отдыхай, отдыхай уж, — соглашается она с ненавистью, и добавляет: — Дело молодое.
Трамвай тормозит, юноша вдруг великодушно встает и говорит ей: — Хоцес, поделзу?
— Нет, спасибо, миленький, — отвечает она, правильно, похоже, понимая его наитие. И забивается на сиденье, пряча сумки под валенки.
— Ну и сиди, зопа сталая, — добродушно говорит он и выпрыгивает в туман.
Но чу! Наконец-то просыпается и непременная тема обмана, она, долгожданная, завязывается сразу в двух местах. Мы все подряд — обманутые и оскорбленные люди. Нас дурят, кидают, обворовывают, позорят государство, сослуживцы, соседи и родные нам люди. За долгие трамвайные годы я понял не одно только то, что нетронутых обманом и обидой людей у нас не осталось. Это неудивительно при нашем прогрессизме. Дайте постареть — и я подсяду в трамвае к знакомой сверстнице и сквозь диабет столько ей понарасскажу, вороша торфяное болото памяти!
«Heт беда в том, что, с другой стороны, если все обмануты в лучших чувствах, то, видно, все и виноваты. Все соблазнились! И народная особенность здесь та, что чаще всего дурят и обижают нас у нас глупо, нерасчетливо, на свою же голову, повинуясь неразумному хватательному инстинкту голодных рыб. Нет, не саксонцы мы — те, небось, и в этом доки! Легко срывается рука, птицей вылетает роковое слово. Но запредельны проценты в банке жизни. И уже завтра протер глаза — а в губе крючок! Мы — народ с крючком в губе», — удовлетворенно думаю я, частично смущенный своим глубокомыслием.
Да, всякая встреча человека с обществом исполнена у нас горестного и сладостного садомазохизма. О, трамвай, в этом ты классик, тебе воистину дана чистота этой встречи!
Передо мной висит в воздухе ветхое, но красивое — барское левое ухо старика. Может быть, он разглядел во мне собеседника, поскольку адресно шепчет мне: — Народ наш, наши бабушки — они как те лягушки. Ночью они зовут день, днем — ночь. У них Литва до сих пор с неба падает. Ничего не помним, ничего не любим. Только завидуем. Даже несчастьям чужим завидуем. И так уж целый век. Как зажили до войны в страхе, в истерике, так безответственно и существуем. Мелочевщина!