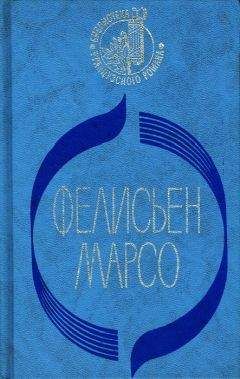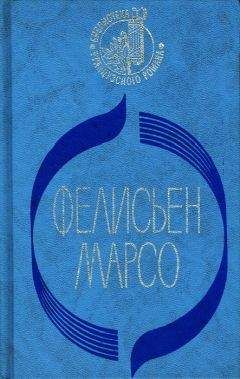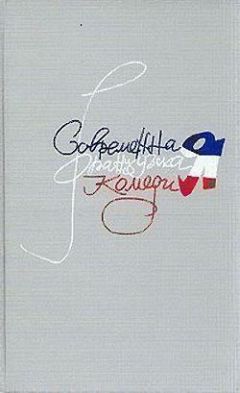Фелисьен Марсо - Капри - остров маленький
— Форстетнер, — произнес Вос, сопровождая свое добавление широким жестом руки, словно кормилица, приглашающая мальчишек играть вместе.
— Андрасси, Мейджори Уотсон.
— О! Миссис Уотсон! — любезно откликнулся Форстетнер. — Миссис Уотсон! Мне столько говорили о вас.
Она удивленно посмотрела на него. Впрочем, у нее были большие, немного навыкате глаза, слишком большие для нее, и ее лицо выражало удивление, скорее всего, по любому, даже самому незначительному поводу.
— А! Так это, значит, вы собираетесь купить мою виллу? — спросила она.
— Вашу виллу?
Форстетнер, произнеся эту реплику, стоял с открытым ртом — настолько, видно, ему хотелось показать свое рвение.
— Да, именно мою виллу вы должны смотреть в одиннадцать часов.
Андрасси машинально посмотрел на башенные часы. Вос проследил за его взглядом, но по его виду нельзя было понять, что он думает по этому поводу.
— Но я вас предупреждаю, — продолжала не без строптивости миссис Уотсон. — Моя аренда еще будет действовать в течение месяца. И я намерена воспользоваться ею.
Что означали ее агрессивные высказывания? Кто собирается ее выгонять?
— Я был бы чрезвычайно рад, миссис Уотсон, если вы останетесь у меня в качестве жильца, — пошутил Форстетнер.
Миссис Уотсон взглянула на него так, словно с ней заговорили на китайском языке.
— В случае необходимости, — смущенно добавил старик.
— Я прощаюсь с вами, — проговорила она своим желчным тоном. — У меня была встреча со Станни…
Лицо Станнеке Boca, торчавшее сантиметров на двадцать выше шляпы мексиканского пеона, изобразило печальную гримасу.
— А вообще-то вы можете посмотреть виллу и без меня. Виски стоит на комоде в гостиной. Или в моей спальне. Станни! Ты опять уставился на эту женщину! А на меня ты никогда не смотришь.
Станни согнулся вдвое, чтобы его лицо находилось на одном уровне с ее лицом.
— Это я, что ли, виноват? — сказал он раздраженно. — С этой твоей шляпой! Мне пришлось бы стоять в такой вот позе, чтобы смотреть на тебя.
Подобные слова, должно быть, казались миссис Уотсон верхом галантности. Она ласково улыбнулась, сняла шляпу и встряхнула своими короткими волосами. Ее лицо было очень сильно накрашено, но на шее проступал естественный цвет ее кожи, скорее, сероватый.
— Давайте посидим где-нибудь, — предложил Форстетнер.
Три кафе с трех сторон площади выдвинули вперед свои железные столики и никелированные стулья. В определенном смысле здесь можно было без особой натяжки представить себе, что ты находишься в Париже, в кафе на площади Сен-Жермен-де-Пре.
— Нет, нет и нет, — энергично запротестовала миссис Уотсон. — У нас со Станни дела. Станни, ты идешь?
Она потащила его с собой. Форстетнеру это не понравилось.
— Одна из королев Нью-Йорка, — осуждающим тоном произнес он.
И направился к одной из трех террас. Там уже сидело несколько мужчин в пуловерах пастельных тонов и несколько женщин в брюках, да еще черный пудель.
— Минутку, — остановил Форстетнер Андрасси, видя, что тот садится. — Сходите, пожалуйста, за марками.
— Иду.
Почта находится на площади, в одном из дворов. Когда Андрасси вышел оттуда, он увидел ее, ту самую девушку, которую встретил накануне, девушку с письмом, с темными, но легкими, как пена, волосами. Она шла к нему и смотрела на него, без улыбки, но с открытым лицом — с этой… с этой трещинкой во взгляде, которая появляется, когда кого-то узнают, с этакой зазубринкой, с чем-то таким, что царапает привычную слюду взгляда. Андрасси улыбнулся. На ее лице тоже появилась веселая, широкая, счастливая улыбка, выражавшая явное удовольствие.
Однако, как только он сел, на него обрушились вопросы.
— Кто эта милашка, с которой вы поздоровались? — набросился на него Форстетнер.
Андрасси посмотрел на него. Старик выглядел явно раздосадованным.
— Так это же та девушка, которая вчера принесла вам письмо.
— Письмо Рамполло?
Рамполло был агентом по найму жилья, тем самым агентом, который…
— А! Так она, значит, дочь Рамполло?
— Похоже, вас это интересует…
Голос у него был нехороший, какой-то едкий. Над длинным красным носом маленькие глазки Форстетнера за стеклами очков блестели, как глаза мыши, живые и проворные.
— Но только не забывайте, о чем я вас предупреждал. Никаких женщин! Никаких историй с женщинами!
— Но, господин…
— Я не хочу оказаться в смешном положении.
— Я не вижу…
— А вам ничего и не надо видеть!
Форстетнер нервничал, стучал тростью по мостовой. Люди, сидевшие за другими столиками, начали обращать на них внимание.
— Даже если это вам покажется… если это вам кажется… вы обещали. Это наш договор. А договор — это договор.
— Женщина ведь только поздоровалась со мной…
— Я вас ни в чем не упрекаю. Я только повторяю: никаких историй с женщинами! Я терпеть этого не могу. Прежде всего, это грязно. Я…
Он заметил, что люди его слушают, пожал плечами и продолжил говорить уже немного потише, наклонившись, но на лице его сохранялось выражение с трудом сдерживаемого раздражения, а в голосе звучала какая-то тревога.
— Вы обещали.
— Ладно, обещал, — согласился Андрасси.
Форстетнер заворчал, удобнее уселся на стуле и, положив руки на трость, надвинув панаму на нос, стал смотреть прямо перед собой. Но его рот еще немного двигался, словно он что-то жевал. Андрасси тоже стал смотреть прямо перед собой.
… И увидел лагерь Баньоли.
Это рядом с Неаполем, Баньоли, на римской дороге, предместье, которое граничит с полями: убогие, серые дома с затхлыми запахами охры или роз, старые земледельческие приспособления, валяющиеся в беспорядке на утрамбованной земле, несколько деревьев, на которых висит белье, ограждение, сверху сетка, бараки, несколько тонких струек дыма — концентрационный лагерь для перемещенных лиц.
И вот однажды утром появился украинец из канцелярии и крикнул:
— Андрасси! К вам пришли.
Перед канцелярией Андрасси увидел Форстетнера.
— Мне говорили о вас.
По Андрасси скользил быстрый взгляд живых, беспокойных, как маленькие мыши, глаз. Несколько интернированных издалека равнодушно смотрели на них. Какой-то старик с ведром. Сторож как раз в этот момент зевнул, и его лицо исказилось, стало похожим на болото с ползающими по нему животными.
— Я думаю, все будет хорошо. И все неприятности останутся в прошлом.
Затем он быстро добавил:
— Я сегодня же возвращаюсь в Рим. И вернусь с одним из моих друзей, советником посольства…
Он сделал паузу, наверное, чтобы подчеркнуть важность своих слов.
— Он уладит ваше дело. Я беру вас в секретари. Вы отправитесь со мной на Капри, где я хочу обосноваться, купить виллу. Слышите, на Капри?..
В его словах уже присутствовала одна из догм острова: какое же это невероятное счастье — попасть туда и там жить.
— Вы будете получать на свои расходы десять тысяч лир в месяц. Но я только ставлю одно условие. Категорическое. Никаких женщин! Помните об этом. Я не хочу иметь секретаря, который занимался бы… Я терпеть не могу всяких историй с женщинами. Это всегда кончается плохо. А расхлебывать придется мне.
— Вы правы, сударь.
Ограждение, сверху сетка. А за ними — дорога, виноградники, свобода. До условий ли было в тот момент Андрасси!
— Мой предыдущий секретарь доставил мне массу хлопот. И я не хочу, чтобы это повторилось.
— Вам нечего бояться, сударь.
А между тем одному Богу было известно, как ему хотелось женщину. Уже столько времени!
— Итальянцы — обидчивы.
— О! Уж я знаю.
— Знаете? Откуда?
Быстрый взгляд, вопрошающий и подозрительный.
— Слышал. Но вы можете быть спокойны.
Ограждение, колючая проволока. А напротив — свобода. Розово-охряная свобода.
— К тому же, что касается женщин, то я…
— А! Вы говорите…
Тон сразу стал более настойчивым, более заинтересованным. Но Форстетнер тут же подкорректировал его:
— Впрочем, мои соображения вас не касаются. Мы заключаем договор. Я предлагаю вам свои условия.
— Понятно.
Тем временем людей на площади заметно прибавилось. Толпа разрасталась за счет пассажиров отплывавшего в половине двенадцатого парохода. Они прибывали по канатной дороге, вагончик которой останавливался за башенкой, словно лифт некоего усовершенствованного театра, который подвозит статистов к стойке кулис. Другие же подъезжали на такси и вылезали из машины, не скрывая своего изумления.
— Это что, гостиница? А где же гостиница?
Приходилось им объяснять, что такси не могут проехать через площадь, что улочки за ней слишком узкие. Порой люди понимали не сразу. Пожилая дама в лиловой шляпе стояла совершенно растерянная, озиралась по сторонам и ругалась. Портье в голубой ливрее сопровождал двух тщедушных носильщиков, сгибавшихся под тяжестью сразу нескольких чемоданов. Газетный торговец перед своим магазинчиком торопливо разрывал указательным пальцем упаковку только что поступивших ежедневных газет. Люди входили, выходили, и каждый держал перед собой свою газету, похожую на смятое, грязное крыло. Магазинчик газетного торговца представлял собой всего лишь небольшую пристройку, окрашенную в зеленый цвет. Рядом — одно из трех уже упомянутых кафе с навесом в белую и красную полоску. Дальше шли другие магазинчики: галантерейная лавка, кондитерская, киоск с сувенирами. Наверху — низкие фасады домов с плоскими крышами. Густо-розовые, белые или переливающегося голубого цвета. Там и сям мемориальные доски, напоминающие о чем-то или о ком-то. И церковь. Но церковь находится не на площади. Она лишь как бы касается ее, выдвигая угол своего белого фасада, подобно человеку, который прислушивается к разговору, но не хочет, чтобы это заметили. Вход в церковь находится на маленькой боковой площади. Туда ведут несколько ступеней, на которых обычно сидят несколько аборигенов, загорающих, наслаждающихся жизнью.