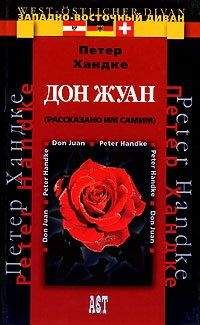Галина Щербакова - Стена
На другой день, вечером, он пошел в кино. Куча билетов у него тогда была. Встретил Ираиду. Подошла вся такая то ли неуверенная, то ли потерянная. В общем, к его настроению – в масть.
– Вам нужен билет? У меня лишний…
А когда вернулся домой – новость.
– Сосед ваш умер…
Старичок лежал строго и важно. Суставы пальцев белели на черном пиджаке. Дама прикладывала платок к глазам:
– Из бывших. У него до революции имение было под Москвой.
– Все умрем. И бывшие и настоящие, – отрезал Вячеслав и направился в свою комнату.
Дама просочилась за ним:
– Слушайте, Вячеслав, горе горем. А жизнь – жизнью. Вы могли бы похлопотать себе его комнату. Я ведь слышала, вас оставляют в Москве.
Оставлять оставляли – теоретически. А практически спросили: «А что, московской невесты у тебя нет, чтоб уж без сучка и задоринки?»
Про Настю в академии не знали. Они еще записаны не были. А после истории с побелкой он вообще стал чувствовать себя свободным.
Это пришло единым, неделимым обстоятельством – смерть старичка и оставшаяся после него комната, возможность получить ее и Ираида, появившаяся как судьба, ровненько в тот момент, когда у него остались лишние билеты.
Ираида не нравилась ему тогда. В ней еще не было силы, за которую ее можно было уважать. После войны все были худые, а у нее на почве авитаминоза выпадали зубы. Она вечно прикрывала рот платочком, потому что ей долго и неудачно ставили мосты. А когда поставили, она сразу воспрянула, даже ростом выше стала, будто что-то перекусила в себе новой челюстью. В общем, он догадывался что!.. Видимо, какую-то любовную историю. Из мимолетных разговоров даже сделал вывод: не подходящий по анкетным данным попался мужчина. Что-что, а это он понять мог. Они в те дни, не сговариваясь, играли по одним нотам, и теперь, когда она улыбалась, не боясь показывать зубы, он даже с удовольствием появлялся с ней в разных зрелищных местах – ему импонировали ее сдержанная строгость и напрочь подавленное бабство, которого в Насте было сверх головы.
А тут у Ираиды еще умер начальник. Видимо, он ее очень допекал своими советами, у Вячеслава у самого был такой. Увидел: она обрадовалась! А обрадовавшись, застеснялась, все-таки нехорошо, человек умер. И очень стала суетиться на похоронах. Ему понравилось, что она застеснялась этой своей радости. С хорошей стороны это ее характеризовало.
Он поверил в счастье с такой женщиной. Он даже думал: «Я умный. Я знаю, чего хочу. Я могу поворачивать обстоятельства к себе лицом. Я разбираюсь в людях…» Он написал Ираиде на фотографии: «Любимой…» Выводил буквы, будто выжигал их в своем сердце на тех самых местах, где стихийно, вне разума, могла проступать Настя. И радовался тому, что подавлял, побеждал проступающее. «Человек – хозяин судьбы». Эти слова он записал на обложке коленкоровой тетради. А ниже – «Через тернии к звездам».
* * *– Передвинем кровати, – сказал он твердо, – передвинем. Ляжем головами к этой проклятой стене.
Но она молчала. Он немного обиделся: не слышит, что ли? А потом понял: она уснула. И то, что уснула, не дождавшись его слов, а главное, даже будто и не нуждаясь в них, снова вызвало в нем раздражение. Жалуется на бессонницу, а ведь спит! А он не жалуется, он никому никогда не жалуется, а уснуть не может! И так всегда. Что бы у него ни случилось. Пока погоны носил, сколько было всякого. Где-то что-то стрясется, ты за тысячу километров и ни сном ни духом, а отвечай, как положено. И отвечал. Сейчас нет погон и нет той работы. Он стал на старости лет начальником бумажек и скрепок. Но и здесь он свои обязанности выполняет со всем тщанием. Потому что – никогда! ни копейки! – он не смог бы получить ни за что. Он не может понять тех нынешних, которые любят деньги получать, а дело не делать…
Потянуло встать и еще глотнуть, и такое милое душе предстоящее действо так взбодрило, что он впрыгнул, как молодой, прямо в тапочки, и она услышала, проснулась.
Смотрела, как шустро он пошел из комнаты, и стала предполагать, к какой из бутылочек он пойдет – кухонной, туалетной или ванной? Она думала о том, что когда-нибудь у него будет инфаркт. Что ей еще предстоит вытаскивать его «оттуда» и что она будет делать это с присущей ей добросовестностью и вытащит.
Не было страха, ужаса перед болезнью, была уверенность в своих возможностях и силе. Как она подымет на ноги всю профессуру, как обеспечит отдельную палату и сиделку, как сумеет организовать любые лекарства из любой заграницы. Странно устроена жизнь! Вот Мите она ничем не могла помочь.
Теоретически можно представить такое: она загораживает его своим телом. Ну погибли бы оба. Есть безнадежные случаи. Есть… И они не только на войне. В конце концов, тогда, в этой истории с Валентином Петровичем… Она знала, насколько это бессмысленно и опасно. И быстро решила, ей тогда одного намека хватило.
Как-то в Кисловодске ей показалось, что она встретила Валентина Петровича. Он стоял и смотрел на воду. Не очень длинное у них было знакомство, а вот эту его страсть смотреть на воду запомнила. Она прикрылась зонтиком и стала наблюдать: он или все-таки не он? Не располнел – такой же тощий… Не полысел – такой же шевелюристый, хоть теперь и белый. Такой же с виду беззащитный, но… Вот из-за «но» она в конце концов решила, что ошиблась и что это был не Валентин Петрович. Первое «но». На нем был кримпленовый костюм, а они тогда только-только появлялись. Вещь была дорогая и могла быть только привезенной. Второе «но». На лацкане у него был депутатский значок. Тут уже концы с концами не сходились. Третье «но» было молодой и красивой женщиной, которая возникла рядом и провела пальцами по его щеке. Провела, и все. Он только чуть кивнул, мол, вижу, что ты тут, и продолжал смотреть на воду, а она замерла рядом. А потом стала смотреть на ее, Ираидин, зонтик, потому что у нее был точно такой же. Японский. Складывающийся.
Эти три «но» заставили отвергнуть мысль, что это был Валентин Петрович. У Валентина Петровича не могло быть кримпленового костюма, депутатского значка и женщины в таком возрасте. «Не он!» – сказала она себе твердо и ушла, подавляя сосущее ощущение забытой, но вспомнившейся неприятности.
… Уже после войны ей дали – благодаря Ивану Сергеевичу – крохотную комнатку, девять метров. Рай. Хоромы царские. Узкое окно глядело прямо на церковную башенку. Это поначалу смущало. Посмотришь в окно, и первое, что видишь, – крест. Но потом она приучила себя смотреть на крест свысока, презрительно и в комнату влюбилась без памяти. Ничего не пугало. Кухня на восемь хозяек, очередь в туалет по утрам, дежурные субботы, когда содой и щеткой приходилось мыть громадный коридор. Другие, когда мыли, стонали, дескать, хлама много, велосипеды, чемоданы, ящики, а ей хоть бы что. Молодая, сильная, мыла и терла паркет, чистила выжелтевшую ванну, ни с кем в квартире не ссорилась. Из-за чего ссориться-то?
А потом поселился в квартире Валентин Петрович. Вернее, вернулся в свою комнату, до времени закрытую и опечатанную. Вместе с двумя ребятишками, которых забрал от бабушки. Мальчик и девочка, семь и девять лет. Сам он вернулся после плена, жена его во время войны умерла, и вся квартира жалела его и ребятишек.
Как хорошо помнится эта утренняя очередь в ванную, в уборную. Мальчик и девочка, заспанные, идут прямо куда надо, никто не возражает. На кухне каждый старается налить им из своего чайника. И она тоже.
Валентин Петрович в кухне – сплошной цирк.
«Разрешите ваши спички. Я свои уронил в кастрюлю…»
«Извините меня, Ольга Ивановна, я опять обмишурился с маслом… Не дадите ложечку?…»
«Макароны у меня пригорели… Скажите, это безнадежно или как-то можно спасти?…»
К Ираиде он обращался чаще всего, она подкармливала ребят, даже стирала с них, когда бралась за свое. Вечером Валентин Петрович приходил к ней просто так.
– Ида (он называл ее так), спасибо вам за все. Вы так выстирали Наташке платье, что я его не узнал. На нем, оказывается, и цветочки, и ягоды.
– Ерунда какая.
Ираида смущенно распихивает по углам вещи, на ее взгляд, интимные. Ей, например, кажется, что и пудреницу, и помаду видеть мужчине не полагается, и она прячет их под вышитую дорожку на тумбочке. И то, что на подушке у нее накидка ришелье, тоже смущает, будто она мещанка какая. И она кладет на накидку географическую карту. А тут на столе лампочка с чулком, не успела доштопать. Тоже надо спрятать, а на подоконнике в ситцевой косыночке тряпочки, на которые она накручивает волосы на ночь. И она все прячет, все растыкивает, а Валентин Петрович – олух царя небесного – хочет ей помочь, он ведь ей так благодарен, она карту на ришелье, а он снимает, порядок так порядок. Не понимает, что порядок – когда все строго. Это мама с ее поделками, вышивками… Все шлет, шлет…
Черная строгая шляпа с вуалеткой.
– Идочка, вам очень к лицу эта шляпа. Давайте я вам поправлю. – Немного загнул поля, вуалетку присобрал. Откуда в нем это?