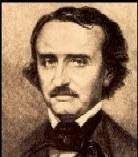Юрий Красавин - Русские снега
— Дементий, ты умеешь отличить белогвардейскую форму от иной?
— Видел в кино. «Адъютант его превосходительства».
— Вот я и говорю… У них натурные съёмки идут. Только почему они стреляют, да ещё и настоящими пулями? Это ведь опасно… для мирных жителей, вроде нас. Ведь поля могла бы попасть в тебя или в меня.
Теперь и он развеселился, а потому бодро запел:
— Здравствуйте, барышни!
Здравствуйте, милые.
Съёмки у нас, юнкеров, начались.
Взвейся, песнь моя, любимая
Буль-буль-буль, баклажечка зелёного вина.
Оборвав пенье, пояснил:
— Героика и романтика военных — выпить, закусить, пострелять… ну и портсигаром щелкнуть перед барышнями. Им всегда нравились военные…
— Ну да, мне понравился… тот, который помоложе. Который сказал про серебряную подкову у Калистрата.
Ваня ей насмешливо:
— Эполеты, аксельбанты, шпоры,
Портупейный скрип и блеск погон
На святой Руси красавиц гордых
Волновали, братцы, испокон…
Кстати сказать, это были его собственные стихи, сочинённые по другому случаю и не так давно.
Выйдя из леса, они опять потеряли дорогу, но счастливо наткнулись на заржавленную сеялку, стоявшую как раз в том месте, где просёлок раздваивался: налево — в Пилятицы, направо — в Лучкино. Сеялка стояла тут с незапамятных времен, сломалась однажды, тут её и бросили.
А дальше им было не по пути. Он остановился, пошатнулся и упал в снег, словно подстреленный.
— Ну, Дементий! — сказала Катя, встав над ним. — Ты чего?
— Вроде бы, понимала, что он шутит, но в то же время и встревожилась. Ваня лежал недвижимо.
— Дементий!
— Прощай, — произнёс он слабым голосом смертельно раненого. — Спасайся сама… Передай нашим… что я честно погиб… за рабочих.
— Я давно подозревала, что никакой ты не Иван-царевич, а просто Иван-дурак, — уже рассердясь, сказала она. — Ну и оставайся тут, замерзай, как ямщик.
— У меня в сумке шесть буханок хлеба, — сказал он тем же слабым голосом. — Хватит недели на две. Сухой бы корочкой питалась, и тем довольная была.
— И не смешно вовсе, и не остроумно.
— Я хочу раствориться в этих снегах…
— Смотри, царевич! — воскликнула вдруг она изумлённо.
Как раз возле колеса ржавой сеялки вытаял холмик с зеленой-зеленой травой… и в этой траве несколько цветков — луговой василек, две ромашки, дрема. Цветы совсем не чувствовали холода, потому что над холмиком был горячий летний полдень — именно так! — даже шмель тут жужжал.
— Не трогай! — успел крикнуть он, вскакивая.
Но она уже протянула руку, и снег, окружавший холмик, с легким шорохом обрушился, скрыв под собой маленькое лето. Катя жалобно пискнула, стала разгребать снег, да где там! Пропало всё.
— Утомила ты меня, — рассердился он. — Думай сначала, а потом делай! Ты не ребёнок по третьему годику, чтоб срывать каждый цветок.
— Я нечаянно, — виновата оправдывалась она.
— У вас очень плохое воспитание, барышня, — продолжал он, смягчаясь. — В какой семье вы воспитывали? Кто ваши родители?
На этот раз она не обиделась.
— До свиданья, царевич!
До Пилятиц тут уже недалеко. Она тотчас скрылась, и из-за снежной пелены донеслось:
— Не плачь обо мне, царевич! Мы ещё увидимся!
— Дома будешь, в сенях посмотри внимательно в угол, — отозвался он.
— Зачем?
— Там шевелится кто-то.
— С чего ты взял? — голос Кати звучал уже с испугом.
— Я свои кадры знаю!
— Дурак ненормальный, — было ему ответом.
Значит, испугалась не на шутку.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Тишина томила и угнетала Ваню Сорокоумова во сне, будто изба за ночь опустилась в неведомые глубины, подобно кораблю, потерпевшему крушение. Впрочем, иногда эту тишину нарушало странное сочетание звуков: скрип снега под чьими-то ногами и звон отбиваемой косы… визг санных полозьев и щебет ласточек… тонкий звон льдинок в студеной проруби и жужжанье шмеля…
А проснулся он оттого, что вокруг слишком тихо, прямо-таки неправдоподобно тихо. Какое теперь время в ночи — не понять. Может, уже утро? Привстал с постели, пощелкал выключателем — свет не зажёгся, и радио молчало, сколько ни тормошил его. В доме был транзистор, но куда-то запропал, поди-ка найди в такой темени. Да и что его искать, коли в нём батарейки сели две недели дней назад!
В темноте босиком прошлёпал Ваня по холодному, почти ледяному полу до стены, где часы-ходики, — гиря достигла самого нижнего положения и почти легла на лавку. Поднял гирю, толкнул маятник — мерное, хрипловатое тик-так зазвучало в тишине беспомощно и жалко. Ну, коли темно, рассудил он по-умному, значит, ещё ночь.
Опять нырнул под одеяло, даже успел уснуть и услышал чей-то строгий, взыскующий голос:
— Иван! Ты ведашь ли? Великие снега легли… беда!
«Ведашь, — передразнил спящий. — Эко несчастье — снег. Не впервой».
— Вставай, Иван-царевич!
Кто-то хихикнул там, во сне:
— Да он дурачок, Ванька-то, хоть и с умной фамилией! Али не знаете? У него мозги всмятку! Он же нынче летом навернулся с моста со своим мотоциклом.
— Кем себя назовёшь, тем и прослывёшь, — отбивался во сне спящий. — Сказано: Иван-царевич. Так тому и быть.
А в яви вошла мать со двора, посвечивая керосиновым фонарём.
— Вань, вставай!
Голос тревожный.
Электричество гасло в Лучкине по разным причинам: где-то столб повалился под порывом ветра, то на провода вороны сядут и тяжестью своей оборвут их, то просто отключит кто-то по своей прихоти.
Керосиновый фонарь всегда был в обиходе — он уж помят, заржавлен, а всё служит. При свете его видно: возле подпечка сидит и умывается мышь, при этом посматривает на хозяев дома очень смышлёными глазами-бусинками. Умывалась и мышиная тень, перемещаясь по полу согласно покачиваниям фонаря.
— Эт-то что такое? — опешила Ванина мать — Маруся — и топнула ногой. — А ну, брысь!
Мышь посмотрела на неё укоризненно и юркнула за валенок у печи.
— Ведьма-то куда наша глядит?
Кошку звали Ведьмой за то, что она никогда не ночевала дома, по ночам гуляла («шлялась» по выражению Маруси) во дворе и по чердаку, уходила и к телятнику, что на околице, и к омёту яровой соломы. Теперь же она мирно спала на голбце, от света закрылась лапой, на мышиные проказы и ухом не вела.
— Я дверь наружную не смогла открыть, — озабоченно сообщила Маруся. — Привалило снегом.
Стало слышно, что неподалёку кто-то колет дрова… вроде бы как у соседей. Но ведь рядом не живёт никто! Раньше соседями были Тарцевы — двое взрослых и двое детей; теперь их нет, уехали и дом свой увезли; а изба Сорокоумовых уже на особицу стоит. Да что! Теперь в Лучкине каждый дом на особицу. А слышно ясно, что именно у соседей топор ахает, поленья гремят, бросаемые чьей-то рукой… доносилось же это как бы через стену, а не через окно.
— Блазнится нам, — сказала Маруся, успокаивая себя и сына. — Всё утро так… то корова чья-то мычала, то куры кудахтали, то вальком по белью колотили у ручья.
— А сейчас утро?
— Раз Ведьма спит, значит, утро. Да и корова у меня настрадалась не доенная. Вышла я к ней, а она чуть не человеческим голосом… ругаться. Проспали мы долго… однако же ишь, темь какая.
Ваня оделся, на ощупь через сени вышел на крыльцо, толкнул рукой наружную дверь — та не поддалась; двинул плечом — скрипнула и отошла лишь чуть-чуть; во всей этой щели по притвору сверху донизу — только снег.
— Я уже пробовала через черный ход, там и вовсе крепко привалило, — сказала мать из сеней.
Вдвоём налегли на дверь и кое-как отжали — стена плотного снега была перед ними, хоть нарезай его ломтями, плитами, кирпичами.
А по улице между тем телега ехала… явственно слышалось, как лошадка ступала по пыльной дороге — именно по пыльной! — а возница совсем рядом с ними причмокнул, лениво сказал: «Н-но!» — телега загрохотала колёсами и, удаляясь, затихла.
Ваня оглянулся на мать: слышит ли? Маруся слышала, но её больше заботило другое:
— Печь не растоплю никак — дым не идёт в трубу: знать, её тоже снегом забило. Полезай-ка ты, Вань, проверить надо…
2.К чердачному окну тоже плотно прилегал снег. Ваня отогнул гвозди, вынул раму; окошко тут небольшое, едва протиснулся сквозь него на карниз, при этом всё более и более озадачивался: казалось, только отпихни эту снежную стену, и она отвалится — откроется изба старушки Анны Плетнёвой за дорогой и вся деревенская улица; но рука уходила в толщу снега и не чувствовала далее свободного пространства.
Мыслимо ли, чтоб завалило по самый князёк?
По карнизу протиснулся Ваня к углу; здесь прибита к стене жердь — антенна телевизионная. Пошатал её — нет, не качалась она, снег держал её вверху. Что за чудеса в решете! Выбрался на крышу и по князьку почти ползком стал проталкиваться к трубе, вжимая голову в плечи, чтоб снег не попадал за ворот. Шапку потерял — едва нашёл в снежном месиве. Но сзади оставалась круглая нора — снег был очень рыхлым и сыроват, не осыпался.