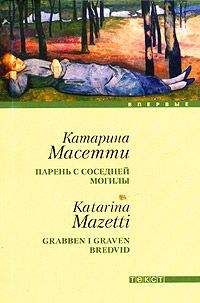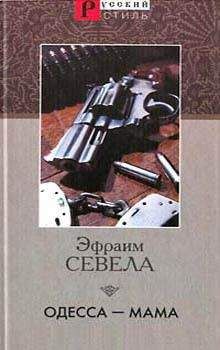Эфраим Севела - Мама
Перед зеленым столом — еврейский мальчик. Отвечает бойко. У членов комиссии — кислые лица. Перебивают, обрывают. Мальчик начинает заикаться. Умолкает.
Перед зеленым столом — поляк. Еле-еле мямлит. Но вся комиссия с сочувствием взирает на него, ободряюще улыбается.
И вот настает очередь Янкеля. Он идет по ковровой дорожке к зеленому столу абсолютно бесшумно. Членам комиссии из-за стола не видны его ноги. Янкель стоит перед столом босой, в одних носках. Вся комиссия смотрит на него с таким видом, будто они кислых яблок наелись. Председатель, брезгливо оттопырив губу, через монокль бегло пробегает его документы.
— Янкель Лапидус… Из Вильно… Гм… С подобным именем пристало селедкой торговать… Претендуя на звание студента нашего университета, не мешало бы предварительно подумать о замене «Янкеля» хотя бы благозвучным польским именем «Ян». Из уважения к этим древним стенам, что ли? Добро. Приступим к экзамену.
Над головами людей, снующих по залу Варшавской телефонной станции, высятся стеклянные кабины, и в каждой кабине кто-то кричит в телефонную трубку, отчего создается впечатление, что эти люди ругаются друг с другом. И если пробежать весь этот набор разнообразнейших лиц, то в последней будке мы обнаружим Янкеля, возбужденно кричащего в трубку:
— Мама! Я принят!
Он плачет навзрыд. На том конце провода слышится ответное рыдание.
— Что же ты плачешь, мама? — всхлипывает Янкель. — Я принят! Твой сын вернется в Вильно адвокатом! Что? Разве я плачу? Тебе кажется, мама. Я улыбаюсь от счастья.
И рыдает еще горше, слушая мамин голос. Потом, утерев рукавом слезы, говорит ей:
— Послушай, мамочка. Я не звоню тебе каждую ночь. У меня остались деньги на питание… Ничего страшного, если и останусь без обеда… Зато услышу твой голос. Да, да. Занятия в университете начинаются первого сентября, Янкель стоит на улице в толпе у газетного стенда. Лица у друзей застыли от ужаса, а помертвевшие глаза читают крупные заголовки на весь газетный лист: 1 сентября 1939 годаГерманские войска перешли польскую границу.
Разгром польской армии. Англия и Франция вступают в войну.
Это — мировая война!
Победное шествие германских войск, колонны польских пленных, крестьяне с детьми, бегущие, от пылающих кострами домов, немецкие бомбардировщики с воем несутся к земле, горит Варшава.
Варшавскую телефонную станцию осаждает толпа. Янкель, сдавленный со всех сторон, протискивается к окошечку в толстом стекле.
— Барышня, Вильно! Дайте Вильно! Всего лишь три минуты!.. Ну, хоть одну минуту!
Воет сирена воздушной тревоги, и толпа быстро рассасывается. Зал пустеет, словно людей ветром сдуло. Один лишь Янкель стоит у окошечка.
— Барышня… — умоляет он. — Вот видите, я один остался… Теперь-то вы меня соедините с Вильно?
Слышен вой пикирующего самолета. Телефонистка срывает с головы наушники и бежит, цепляясь за стулья.
Янкель по другую сторону стекла старается от нее не отстать. Гремит близкий взрыв. Толстое стекло перегородки покрывается трещинами.
Он сидит в подвале с сотнями напуганных людей, которые, втянув головы в плечи, прислушиваются к глухим взрывам бомб наверху. Песок струится с потолка на его голову, Кончился воздушный налет.
Из подвалов и бомбоубежищ, из наспех вырытых во дворах щелей выползают на свет Божий варшавяне с детьми на руках и в немом оцепенении взирают на груды дымящихся руин, оставшихся на месте домов, на пылающую из края в край Варшаву.
Зал телефонной станции пострадал от взрыва. В потолке зияет дыра, косо раскачивается люстра. Окна — без стекол. Под ногами — кучи штукатурки. Даже на толстом стекле, в котором окошечко, — сплошные трещины. За окошечком усталая телефонистка надевает наушники и вскидывает глаза на запыхавшегося Янкеля, раньше других вернувшегося в зал.
— Соедините, пожалуйста, с Вильно! — вздохнул Янкель.
— С Вильно связи нет, — равнодушно ответила телефонистка.
— Как нет связи? — удивился Янкель. — У меня там мама!
Телефонистка криво усмехнулась:
— В вашем возрасте, уважаемый, не о маме надо думать, а защищать отчизну с оружием в руках.
Янкель согласно кивнул:
— Я уже получил повестку. Но как я уйду в армию, не сообщив об этом маме?
На пыльном плацу перед казармами тянется длинная очередь мужчин, молодых и среднего возраста, еще в гражданском платье. Военная форма дожидается их в высоких стопках на деревянном столе, за которым стоят вразвалку бывалые фельдфебели и капралы, с лихо закрученными усами и строгим армейским взглядом. Каждому мобилизованному выдают положенный комплект обмундирования: штаны, френч, ботинки, фуражку-конфедератку с белым орлом. Новобранцы тут же, на плацу, переодеваются. А чуть подальше, те, кто уже переоделся, неуклюже маршируют под рычащие окрики сержантов.
Унтер-офицер пан Заремба среди всех кадровых военных на плацу выделяется особенно лихой выправкой. Сапоги бутылками на его толстых ногах блестят особенно ярко. На штанах из добротного сукна, ловко заправленных в сапоги, особенно четко выделяется отутюженная стрелка, острая, как лезвие бритвы. Портупея с ремнем туго стягивает литую талию и выпуклую грудь, самой природой созданную только для того, чтоб носить кресты и медали, которых пока не имеется в наличии. Но конфедератка на его круглой, коротко стриженной голове не солдатского, а офицерского образца и белый орел на тулье выглядит белее всех остальных орлов на плацу.
Нос у пана Зарембы картошкой, с кровавыми прожилками от пагубного пристрастия к алкоголю. Глазки маленькие, свиные, что особенно подчеркивается белесыми ресницами и такими же бровями. На правой щеке у него
— большое темное пятно с несколькими торчащими волосками. О происхождении таких пятен в народе говорят, что корова хвостом мазнула беременную хозяйку, когда та присела ее доить. Ребенок непременно в таких случаях рождается с пятном на том же месте, а также с некоторыми отклонениями в характере. У пана Зарембы это проявилось в злобе ко всякому, кто не в состоянии за себя постоять, а также в лютой ненависти к евреям, словно евреи надоумили корову хлестнуть хвостом по щеке мать пана унтер-офицера.
Теперь у пана Зарембы есть на ком душу отвести, и желваки уже заранее играют на его бритых щеках. Перед унтер-офицером стоит Янкель, облаченный в обмундирование, которое не совсем соответствует его росту и габаритам. Рукава шинели наезжают на пальцы, тонкая шея болтается в широком вороте френча. Под мышкой он держит охапкой свою цивильную одежду — костюм, сшитый в Вильно соседом-портным, от которого вся Варшава должна была забиться в истерике от зависти, а в правой руке — пару ботинок со скрипом, которые умолкают, лишь когда их снимают с ног.
— Имя! Фамилия! — рычит Заремба.
— Лапидус… — моргает Янкель. — Ян… Унтер-офицер сверил его слова с бумагой, которую держал в руке, и поднял тяжелый уничтожающий взгляд.
— Тут написано другое имя… Янкель… Ты что мне голову морочишь?
— Извиняюсь, пан унтер-офицер. Янкель — это по-польски Ян…
Заремба недоверчиво уставился на него:
— Ты разве поляк?
— Нет… — замотал головой Янкель. — Но я думал…
— Индюк думал и сдох! — поучительно изрек Заремба. — Меньше думай, а слушай команды старшего по званию.
— Хорошо, пан унтер-офицер, — согласно кивнул Янкель.
— Не хорошо, а так точно! — взревел Заремба.
— Извиняюсь, пан унтер-офицер.
— Не извиняюсь, а слушаюсь!
— Спасибо за разъяснение, пан унтер-офицер.
— Не спасибо, а здравия желаю! Ясно?
— Не все ясно, — простодушно пожал плечами Янкель, — но я…
Над ними низко проревел самолет, поливая плац из пулеметов. Все — новобранцы и их командиры — бросились на землю, поползли в разные стороны. Загорелось здание казармы. Оттуда бегут полуодетые новобранцы. Их, как зайцев, расстреливают немецкие летчики.
Янкель и пан Заремба лежат рядом. Янкель поднял голову, покосился на унтер-офицера. Тот потерял бравый вид. Лицо и даже усы в густой пыли.
— Вы живы, пан унтер-офицер? — почтительно осведомился Янкель.
Заремба отхаркнул сгусток земли изо рта, чуть ли не в лицо Янкелю.
— Я тебя переживу, Янкель.
Самолеты в небе делают разворот и снова устремляются вниз. Все, кто в состоянии, бегут с плаца. Унтер-офицер поднялся с земли, счистил пыль с колен своих шикарных галифе и с завидной легкостью пустился бежать во весь дух. Янкель устремился за ним, путаясь в полах шинели. Он бросил свои вещи, которые держал подмышкой, швырнул в сторону ботинки и догнал, поравнявшись с унтер-офицером.
т— Ну, а мне куда прикажете, пан унтер-офицер? — задыхаясь, спросил он на бегу.
Заремба, не замедляя бега, пролаял:
— К чертовой матери!
Пулеметная очередь подняла фонтанчики пыли у их ног, и они оба, как по команде, грохнулись навзничь.