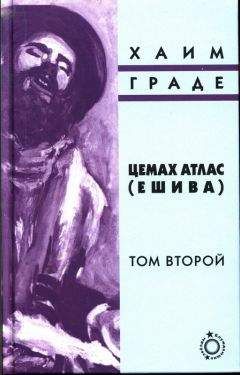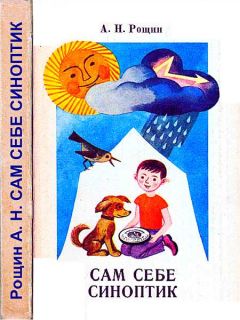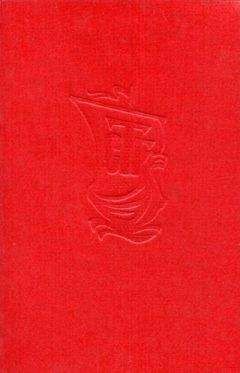Хаим Граде - Безмужняя
В другой раз раввин отвечал:
— Говорите, говорите, я слышу каждое слово. Я хочу узнать, когда появились евреи на Кавказе. Предполагают, что евреи появились там еще до разрушения Второго храма.
Чтение энциклопедии стало для реб Ошер-Аншла испытанным средством, чтобы не терять терпения, пока стороны препираются. Так они могли кричать хоть до утра. Но вот в комнату входит рассерженная жена раввина:
— Там ведь и другие ждут!
Вслед за ней протискивается другая пара, и раввин тут же припоминает, когда вошедшие были у него в последний раз. Он знает, что их препирательства будут длиться еще дольше, чем у предыдущих. Девять бочек словес! Тогда он достает из шкафчика новый том «Еврейской энциклопедии». Ему хочется узнать, когда появились евреи в Салониках.
Находились люди, которые предпочитали нетерпеливость и фанатизм реб Лейви Гурвица выдержке и снисходительности реб Ошер-Аншла. Они утверждали, что реб Ошер-Аншл обходителен, потому что не так учен, как его зять реб Лейви, и, как говорится в Геморе, Учение «не бурлит в нем». Кроме того, ему в жизни повезло: у него набожная семья, счастливая семейная жизнь, и дети доставляют ему много радости.
Жена раввина ревностно заботилась о его достоинстве. Сын был похож на него и видом, и нравом. К восемнадцати годам он уже имел приличествующий раввину животик и знал наизусть два трактата Геморы со всеми комментариями. Дочь реб Ошер-Аншла тоже имела образование и знала несколько языков, но держала себя скромно и даже, как рассказывали, сама мыла полы в родительском доме. Все это передавали с подробностями женщины из соседних переулков, ходившие к дочери раввина, чтобы та писала для них адреса на конвертах и письма родственникам в Америку. «Немало докторов добивались ее руки, — говорили женщины, — но она вышла замуж за ешиботника из Слободки!»[27]
Ее муж, реб Фишл Блюм, много лет сидел на хлебах у своего тестя и не мог получить место раввина, потому что не обладал красноречием, хотя и имел разросшуюся вширь густую черную бороду и толстые мясистые губы настоящего проповедника. И все же никто ни разу не слышал от реб Ошер-Аншла недоброго слова о зяте, который не находил себе должности. Правда, насмешники рассказывали, что однажды тесть все же не на шутку на него рассердился. Это случилось, когда дочь раввина родила в третий раз. У нее уже были две дочки, и, когда реб Фишл Блюм поздравил тестя с третьей внучкой, реб Ошер-Аншл произнес с раздражением:
— Опять девочка!
То был единственный раз, когда видели раввина рассерженным, и даже Калман знал, что реб Ошер-Аншл — сокровище среди старейшин Вильны.
Раввин сидел в своей комнате и листал толстую книгу с вклеенными в нее длинными актами, исписанными от руки с обеих сторон, которые он составлял при выдаче разводных листов. Вдруг разлученная пара придет за справкой о разводе; или же они вновь захотят жениться, и надо будет убедиться, что муж не коэн; или же возникнет вопрос о брачном контракте, или случится спор между детьми из-за наследства — а у Реб Ошер-Аншла наготове все акты, в которых записаны имена разведенных, их происхождение и весь ход дела.
Раввин листает толстую книгу и пожимает плечами, удивляясь: его осмотрительность общеизвестна, он заставляет ссорящуюся пару ходить к нему годами, он пробует все средства на свете, чтобы примирить их. И все-таки накопились сотни разводов.
Заглянуть в акты реб Ошер-Аншла заставил его зять, реб Лейви Гурвиц. Сегодня в вааде зять сказал ему, что если бы он, реб Лейви, ведал разводами, то больше опасался бы, что на том свете спросится с него за тех, кому он отказал в разводе, чем за тех, кого он развел. В наше время, сказал реб Лейви, ссорящиеся муж и жена столько грешат, что раввин не должен брать на себя ответственность и соединять их снова.
Реб Ошер-Аншл горько улыбается: мой зять пугает меня теми, кого я не развел, а я думаю — не развел ли я тех, кого еще можно было помирить? Это мой принцип! Зато вся Вильна живет в мире со мною. Реб Лейви говорит даже, что хорошие отношения со всеми — сомнительная слава для раввина: это значит, что раввин, мол, ни во что себя не ставит. Да мало ли что он скажет! Добром я добиваюсь от обывателей намного большего, чем он — злом. Моя дочь владеет иностранными языками — для него и это недостаток! Это значит, говорит он, что она может читать нечестивые книги на нескольких языках. Он считает, что нельзя было посылать ее в ивритскую гимназию, чтобы другие не брали с меня пример и не посылали в гимназию даже сыновей, а не только дочерей. Он придирается к моему сыну. В нынешние времена, доказывает он, молодой человек должен учиться в ешиве вместе с другими знатоками Торы, а не в одиночку, тем более — в большом городе. Город портит, утверждает он. А человека, сидящего в синагоге наедине с самим собой, даже слава деда, реб Иоселе, не уберегает от нечистых мыслей.
Реб Ошер-Аншл сидит неподвижно, наморщив лоб, словно обдумывая, а не прав ли, действительно, его зять, реб Лейви, в своих обличениях.
«Зависть глаголет его устами! — бормочет реб Ошер-Аншл. — Реб Лейви в претензии ко мне, оттого что его жена и дочь — моя сестра и моя племянница — в сумасшедшем доме. Но все знают, что до родов сестра была здорова, как и другие мои сестры — слава Богу! — по сей день. И если уж предъявлять претензии, так это я вправе их предъявить: моя сестра стала больной у него! Он понимает, что не может винить меня в своей беде, и ведет яростную войну с моим образом жизни. Когда наша семья пришла просить его, чтобы он получил наконец освобождение от брака, он ответил, что поскольку его жена и дочь в больнице, город осудит его за новую женитьбу. И вот теперь он срывает на мне досаду за то, что двадцать два года назад женился на моей сестре, и за то, что теперь ему не к лицу снова жениться».
Реб Ошер-Аншл слышит шаги в прихожей, и беспокойство овладевает им. Пожалуй, у него не хватит нынче терпения выслушивать ссору между мужем и женой. Он наклоняется к шкафчику, чтобы взять том энциклопедии, но передумывает. Он чувствует, что сегодня даже любопытная история кавказских евреев не поможет ему успокоиться. Пересилив себя, он углубляется в книгу записи разводов, чтобы она напоминала ему о том, что терпение нельзя терять. Он не хочет, чтобы в этой книге появился еще один акт о разлученной паре.
Когда Калман увидел раввина, надежда его окрепла. Реб Ошер-Аншл и внешне полная противоположность своему зятю. Реб Лейви Гурвиц низок ростом, широкоплеч, с рыжеватой бородой. А реб Ошер-Аншл высок, тощ, и борода его — точно из серебра высшей пробы. Не суетится, не бегает по комнате из угла в угол; чинно сидит и посетителя тоже приглашает сесть.
Калман почтительно присел на край стула и приступил к разговору. Он уже помнил дело наизусть и излагал его последовательно. Но раввин испуганно взглянул на Калмана, едва услыхав, о чем идет речь:
— Зачем же вы пришли ко мне? Об агуне следует говорить с реб Лейви Гурвицем, раввином из двора Шлоймы Киссина. Я занимаюсь только разводами.
Калман промямлил, запинаясь, что если раввин не решает такие дела, то пусть хоть поговорит с реб Лейви, который не дает просителю даже слова сказать. Реб Ошер-Аншл встал, лицо его изменилось, он попятился, словно ему приказали прыгнуть в горящую печь:
— Сохрани меня Господь! Реб Лейви я ни слова об этом не скажу. Я не имею права вмешиваться! Если вообще здесь есть о чем толковать, этим должен заниматься раввин той городской части, где живет агуна.
Реб Ошер-Аншл, благородный и терпеливый человек, дрожал, и это испугало Калмана еще больше, чем крики реб Лейви Гурвица. Испуганный и растерянный, выбрался он из дома раввина, крепко опираясь на палку, чтобы не упасть.
Полоцкий даян
С отчаяния Калман снова пошел на кладбище читать молитвы, чего не делал с тех самых пор, как стал надеяться, что Мэрл выйдет за него замуж. Идя по дороге к Верхнему Заречью, он не переставал думать о том, что сказал ему реб Ошер-Аншл: делом агуны должен заниматься местный раввин. И чем ближе Калман подходил к Полоцкой улице, где жила белошвейка, тем сильнее сжималось у него сердце, а самого его охватывала тоска, как если бы он был юношей. И вместо того, чтобы подняться в гору, к кладбищу, он вернулся к Зареченской синагоге, где молился здешний раввин, полоцкий даян[28].
За столом сидел человек в очках, сползших на кончик волосатого носа, и читал том мидрашей[29]. Калман тихонько приблизился к нему. Тот, оставив на книге свою всклокоченную бороду, чтобы она не отрывалась от изучения текста, окинул посетителя суровым взглядом из-под густых бровей и протянул ему два пальца. Калман пожал их и сначала завел беседу о местной синагоге, пустующей без изучающих Тору, затем перевел разговор на прихожан, а под конец спросил о раввине: что он за человек, этот полоцкий даян? Собеседник отвечал скупо, не поднимая глаз от книги. Было очевидно, что он многое может сказать, но не желает впадать в грех злоязычия. Он больше бормотал, чем говорил, как будто бы у него был скован язык.