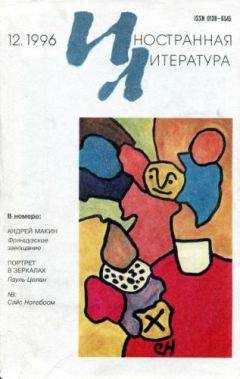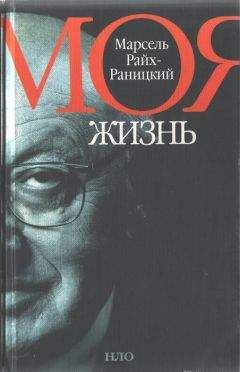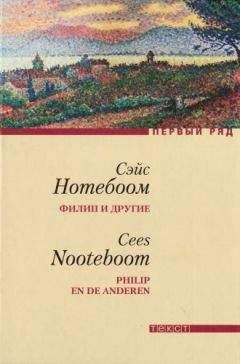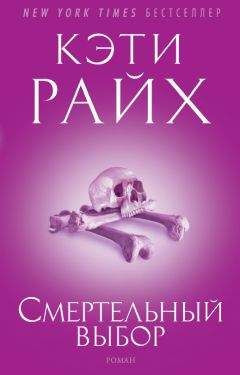Фернандо Аррабаль - Красная мадонна
Я обратила внимание, что Шевалье выражался внятно, только когда, растерявшись от бурного напора враждебности, пытался увильнуть или осадить невежду. Надо было слышать, как он разговаривал с жандармами! Он изъяснялся с такой ясностью, словно речь его была открытой книгой; мне, однако, столь же наивно, сколь и заносчиво, говорил так:
«Чем ты забиваешь себе голову! Радуйся, сияй! Скачи себе заводным кузнечиком среди зеркал и меланхолий!»
А что же я — у меня не было ни его двусмысленной речи, ни обрывков теории, как у него, на все случаи. Какой непосильной представала передо мной простая задача — твое зачатие.
Между тем я уже намечала основу твоего будущего воспитания. С каким воодушевлением развивала я твой ум и логическое мышление, ни в коем случае не в ущерб естественной простоте. Я все время просчитывала: сколько ты будешь отдыхать, какой пищей питаться для скорейшего восстановления клеток, ослабленных каждодневным трудом. Я чувствовала себя архитектором и проектировщиком, и ливень догадок и предположений бодрил мое воображение.
Как часто поднималась я чуть свет, чтобы творить твою жизнь!
Ты научишься извлекать чистый свет, думала я, и пронесешь его над зримым миром, чтобы достичь подлинной сублимации. Все пути откроют для тебя знания и благость. «Моя боготворимая дочь» — так я уже называла тебя.
Мне и в голову не приходило, что ты можешь родиться мальчиком. Как я жила тогда, пронзаемая нетерпением!
Семь раз обошел Иисус Навин стену Иерихонскую, прежде чем она обрушилась. Семь раз облетели лебеди остров Делос, и лишь на восьмом круге родился Аполлон.
Какой же круг завершаю я, спрашивала я себя, и сколько еще неудач мне предстоит потерпеть, прежде чем я встречу того, кто породит тебя?
Но, несмотря на все эти осечки, я не расставалась с надеждой. Я с готовностью принимала и, не теряя головы, анализировала все, что было моей и твоей судьбой.
И я пришла к единственно правильному решению — довериться себе; это было существенной частью воплощения моего замысла.
XIXКогда Бенжамен порой хныкал, жалуясь на головную боль, отец с безграничным терпением растирал ему виски. Мать же, уверенная в своей безнаказанности, отпускала в его адрес, скорее брезгливо, чем насмешливо, злые шуточки.
Как нежно и бережно мой столь любимый отец массировал там, где болело! Его душа в союзе с пальцами врачевала тело и впитывала страдание внука. А в моей голове уже тогда родились мысли о твоем здоровье. Благодаря самому совершенному образованию, думала я, которое я дам тебе с колыбели, у тебя будут три бесценных дара: мудрость, успех и счастье. Ты станешь зеркалом, в котором отразится человечество.
«Ну что за вздор! Будет тебе грезить наяву о дочери! Лучше отдайся воле волн в океане, освещенном огоньками мятных светляков».
Шевалье плел особенно замысловатые речи, изрекая вечные свои глупости, когда будто бы не понимал, о чем речь.
«Моя дочь будет жить под сенью венца природы — древа жизни».
«А, все ясно, когда ты начинаешь молоть вздор, это значит, что тебе опять дали от ворот поворот».
«Весь человеческий опыт не может мне помочь».
«Ты хочешь сказать, что мужчины удирают от тебя, точно испуганные жеребчики?»
«Стоит мне сказать без обиняков, чего я жду от них, — и они, краснея, в страхе бегут прочь».
«Нет больше мужчин. Все вымерли в девятнадцатом веке. Только мотыльки с моноклями остались».
«Сегодня я виделась с сыном нотариуса — помнишь, я говорила тебе, что он за мной ухаживал? Мы уединились, и я сообщила ему, что подготовилась и помылась и что у меня сейчас самые благоприятные дни менструального цикла. Ну вот, и как только я попросила его о плотском соитии, он убежал без оглядки, как будто в него плюнули».
«Нет больше ни бойцовых петухов, ни пропыленных глоток, ни военных парусников, ни ублаженных утроб, ни крепких теплых корней, остались одни желторотики-невротики пустоголовые».
XXПосле смерти столь любимого мною отца Шевалье стал часто приходить ко мне домой, без тени страха или смущения, и мы играли на пианино в четыре руки, как раньше с Бенжаменом.
В трехлетнем возрасте Бенжамен, ничего не имея против, оказался под моей заботливой опекой. Когда, не посчитавшись с пылкой привязанностью мальчика, его отправили в консерваторию, ему сравнялось девять лет. До тех пор ноги его не было ни в государственной школе, ни в каком-либо частном учебном заведении; всему, что он знал и умел, научила его я: читать, писать и главное — играть на пианино. Но сколько я наделала ошибок, и каких серьезных! Видно, чувства у меня были до такой степени возбуждены, что это не могло не сказаться на моих умственных способностях. Но с тобой — другое дело, я была уверена, что на сей раз не дам захлестнуть себя бесконтрольным эмоциям, которые помешают мне выполнить мою задачу.
Отец знал, что Бенжамен просто изумительно для своих лет играет на пианино. Однажды он с гордостью привел его в клуб, желая поразить своих друзей. Они действительно были поражены, да так, что после этого Бенжамен отправился — скорее пленником, нежели по собственной воле — в консерваторию, где с триумфом дал сольный концерт. Никакими средствами нам не удалось потом его вызволить. Лулу подписала все необходимые бумаги, чтобы его передали министерству на полное попечение. Вскоре он начал гастролировать под строгим надзором профессора консерватории, который занял место, прежде принадлежавшее мне.
Мне было всего семнадцать лет, когда произошли эти драматические события, но какой старой я вдруг почувствовала себя, какой продрогшей и согбенной, какой разочарованной и ослабшей!
Мне приснилось тогда, что женщины в профессорских мантиях держали совет и порешили заточить меня в каменном гробу в наказание за мои недуги. Улыбающиеся белочки сбежались ко мне и стали грызть мои кости и плоть.
Эти воспоминания бессмысленно омрачили столько лет моей жизни до твоего рождения. То был мой эмбриональный период или, вернее, растянувшаяся на годы зима, когда в брошенных в землю зернах под действием влаги начинают бродить соки. Как упорно, как терпеливо поджидала я того, кто придет, чтобы породить тебя!
XXIШевалье жил вдвоем с другом преклонных лет и слабого здоровья по имени Абеляр.
«Он высокий, лысый и слабогрудый. Вдобавок он обладает безграничным терпением вечного укора. День и ночь ждет меня, точно монах-траппист».
Как был бы счастлив Шевалье, если б мог вернуть жизнь мертвому металлу и здоровье своему другу!
«Я не теряю надежды заглянуть в клоаку, что скрывается под его проклятой чахоткой, когда-нибудь я осушу ее».
Он уверял, будто приманивает, отвлекает и впитывает болезнь Абеляра. Но при всем том мораль была Шевалье незнакома, а верность и вовсе не ведома. Он смотрел на мир с такой высоты, что порок, ложь и прихоть естественным образом превосходили для него все остальное.
Он запросто рассказывал мне о самых грязных своих утехах и самых непотребных забавах, употребляя при этом самые скверные, самые грубые слова.
«Вчера было дело, спутался я с одним пуританином; все при нем: образки, молитвенник, тряпичные глаза, заржавленные надежды, лет пятьдесят, если не больше. Я даю уроки английского его сыну. Едва он увидел меня впервые, неделю назад, гной из него так и засочился. Он ляпнул невпопад, что всех п… надо бы повесить за м… на соборной колокольне. Видела бы ты, как я вчера его приструнил, что-что, а это я умею! Согрешил он у меня как ягненочек, хотел и получил свою чашу росы! Когда я в укромном уголке вонзил в него свое мускулистое копье, он сам на четвереньки встал, себя не помня от счастья. Только повизгивал, умоляя засадить ему поглубже, до самой середки души».
«Хватит рассказывать мне гадости! Как тебе не стыдно?»
Ему нисколько не было стыдно — ни рассказывать, ни предаваться разврату, до которого он был так падок. Он даже не боялся, что Абеляр узнает, какими мерзостями его друг занимается по ночам.
Изощренные похождения Шевалье наглядно показывали, до какой степени смуты и неустройства дошел наш век. Он уподобился хаосу, порождаемому реакцией воды с огнем и воздуха с землей.
Я знала: ты придешь в этот мир, чтобы все упорядочилось и обрело смысл. Аллилуйя!
XXIIКак свеж в моей памяти тот вечер когда Бенжамен — ему было всего шесть лет — впервые сыграл «Вальс ля-бемоль мажор» Шопена! Без видимого усилия порхали его ручонки по клавишам, а между тем, едва начав свою успешную карьеру пианиста, он уже совершил, сам того не ведая, подвиг, достойный Геракла. Но как мало я еще знала тогда! Мне было невдомек, что музыка вкупе с душевной красотой являет свою истинную природу, более небесную, нежели земную. Не знала я и того, что посредством этого божественного дыхания разрешима невозможность понять друг друга, с которой впервые столкнулись наши предки у подножия Вавилонской башни.