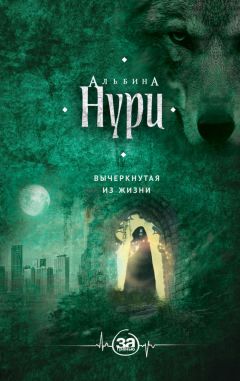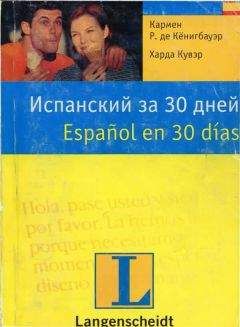Митч Каллин - Страна приливов
— А-а-а-ап-чхи! — снова чихнула я, но отец все так же неподвижно сидел в гостиной, и тогда я повернулась кругом и скользнула в кухню.
Прислонив радио к плите, я порылась в мешке с продуктами и вытащила еду на стол. И тут на меня напал жор.
Соленая рыбина нырнула в банку с арахисовым маслом, пробив блестящую корочку.
За ней последовали другие.
Джон Ли Хукер давно уже отпел свое, и кухня оглашалась звуками кантри. Я жевала в такт взвизгиваниям скрипок и топоту ног танцоров.
Я отпила из галлонной бутыли, облив водой сорочку.
Затем мой указательный палец превратился в нож и стал размазывать арахисовое масло по куску чудо-хлеба. Так я продолжала есть и пить, дожидаясь приятного чувства тяжести в желудке.
Когда я наконец наелась, у меня уже закрывались глаза. Арахисовое масло покрывало мое нёбо, десны, и я чувствовала себя довольной, сытой и сонной под звуки «КВРП, эклектической музыки для эклектических умов».
Усталость толкнула меня на пол.
Когда сорочка, точно одеяло, складками улеглась вокруг меня, я впервые за все время ощутила, какой он теплый, Рокочущий, — точно специально затаил дыхание, чтобы не расставаться с теплом. Но на полу все равно было прохладнее, чем где-либо еще. И по радио заиграли «Перекати-поле», одну из медленных песен моего отца, так что не грех было и отдохнуть чуток.
В блаженный миг между сном и явью я представила себе отца, как он стоит на сцене какого-нибудь лос-анджелесского шалмана, а темно-синий луч прожектора падает на него, зажигая блики на его черной кожаной куртке и штанах. Широко расставив ноги, с гитарой наперевес, точно с автоматом, он приподнимает верхнюю губу и говорит: «Эта песня посвящается двум главным женщинам моей жизни, моей дочке и моей красавице жене».
Элвисовский момент, как он это называл. В каждом концерте должен быть такой.
Перекати-поле по двору катит,
Куда она направится, с кем же будет жить?
Перекати-поле в памяти моей,
С кем она останется, кто по нраву ей
Мать вечно хвасталась, что это посвящено ей, и я никогда не слышала, чтобы отец ей возражал. Он написал эту песню, когда гастролировал в Англии в начале семидесятых. Там они и встретились. Моя мать — худая до прозрачности восемнадцатилетняя девчонка, которая только что вырвалась из Бруклина, но уже заимела собственного азиатского гуру по имени Санджуро. А еще у нее были «Зе Ху», точнее, их ударник, Кит Мун. К тому времени мой отец уже стал идолом каждого, кто брал в руки гитару; славу ему принесли инструментальные композиции пятидесятых, а его эмоциональная, яростная манера игры оказала влияние на молодого Пита Таунсенда. Однако Пит, услышав концерт моего отца в Лондоне, был явно разочарован. Вся программа состояла из одних только кантри-стандартов, в основном каверов Хэнка Уильямса и Джонни Кэша. После шоу Пит Таунсенд зашел за кулисы, но оставался там ровно столько, сколько понадобилось, чтобы пожать отцу руку, а потом насупился и вышел.
— Уверен, что позже он написал об этом песню, — заметил однажды отец, в очередной раз пересказывая мне историю о том, как его познакомили с матерью. — «Встреча панка с крестным отцом» — это наверняка про меня. Не очень-то лестное посвящение.
Зато Мун-Болтун был в восторге.
— Не буду делать вид, что мне не нравится кантри, — заявил он, — потому что я его обожаю!
В гримерку к отцу он заявился в костюме ортодоксального еврея, и от него разило бренди и притворством.
— Музыкальная инновация, шаг вперед-назад, — утомительно веселился он. — Прямо как Моцарт, только по-другому! Гордиев узел из ботиночного шнурка!
И тут в качестве подарка он выставил вперед мою мать — «безумная бикса в качестве приятного вознаграждения», — которая, вальсируя, вплыла в гримерку, наряженная как Пеппи Длинныйчулок. Высокая и худая, она больше походила на мальчишку, чем на девушку, щеки у нее были в веснушках, голубые глаза сияли.
— Не знаю, была это любовь с первого взгляда или нет, — говорил мне отец, пока мы ехали на «грейхаунде», — но, во всяком случае, чертовски похоже. Сначала у нас все было здорово, и долго еще оставалось здорово, потому что с ней я чувствовал себя ребенком… да и деньги тогда еще водились. И она знала, где можно достать дешевый диаморфин, так что я еще и сэкономил, потому что, когда мы с ней повстречались, я покупал дорогой китайский героин. А она доставала коричневый и медицинский героин за куда меньшую цену, чем та, что я платил за номер четвертый. Твоя мать была женщиной со связями, Джелиза-Роза. Даже когда мы перебрались в Лос-Анджелес, она всегда знала, кому звонить и куда идти.. А до того как стать ленивой и толстой, она еще и готовила так, что только есть успевай. Стряпала буритос, пиццу и всякие другие штуки из теста. Мне всегда этого не хватало. Жаль, что ты ее такой не застала. Она была настоящая прелесть.
С тем же успехом он мог рассказывать мне о первом попавшемся прохожем с улицы. Мать спала дни напролет, на обед ела батончики «Кранч» и разговаривала сама с собой по ночам. И никакой прелестью она не была.
Не знаю точно, когда именно я стала ее ненавидеть, но, кажется, это началось, когда мне исполнилось девять лет. К тому времени мои родители уже окончательно сели на иглу. Отец даже выступать не мог — отощал так, что едва волочил ноги. Мать, наоборот, разнесло до такой степени, что, когда она вылезала из постели — а это бывало не часто, — пружины, казалось, издавали стон облегчения, а матрас еще долго сохранял отпечаток ее тела.
В девять лет у меня появились две обязанности по дому — массировать ноги матери и стерилизовать и наполнять шприцы. То и другое я делала на совесть, утешаясь лишь тем, что игла у меня всегда чистая и всегда наготове. Поскольку отец считал, что школа оглупляет детей, меня учили дома, однако все мое образование сводилось к чтению украденных из библиотеки книг (в основном это была классика, слишком серьезная для моего понимания) и просмотру дневных передач на ПБС.
Как только я просыпалась, первый урок начинался на кухне, где я наполняла шприцы концентрированным отбеливателем из кофейной чашки, а потом сливала его в раковину. Повторив процедуру дважды, я споласкивала шприц и иглу холодной водой. Потом набирала немного ширева из сахарницы, где оно обычно хранилось, и разводила коричневый порошок в чайной ложке теплой воды с добавлением витамина С. Потом, взобравшись на стул, я зажигала газовую плиту и держала ложку над горелкой, пока нержавеющая сталь не нагревалась, а оставшиеся в ложке частички не растворялись в поднимающихся со дна пузырьках.
Как только раствор был готов, я наполняла им шприц и несла свое домашнее задание в гостиную на проверку. Отец обычно сидел в обнимку с гитарой на полу или лежал на диване, тупо уставившись в телевизор.
Иногда он говорил «Доброе утро», беря шприц у меня из рук. Но чаще молчал.
Он находил большую вену у себя на внутренней стороне руки, тщательно прицеливался, делал укол, а потом — в краткий миг перед тем, как на него нисходил кайф, — уносил остатки в спальню матери.
Когда утренний ритуал заканчивался, почти до самого вечера я была никому не нужна. Перемена длилась часами. Я могла сколько угодно смотреть телевизор или составляла вместе стулья от обеденного стола, накрывала их нестираной одеждой и грязными простынями, которые валялись по всей квартире, и устраивала себе посреди гостиной шатер. Там я спокойно ела, а кукольные головки составляли мне компанию.
На завтрак я обыкновенно съедала пару пачек эскимо из морозильника. В обед выбирала между печеньями «Поп Тартс» и «Наттер Баттерс». Ужин состоял из бутылки «Доктора Пеппера», батончика «Милки Уэй» и тоста с корицей.
Когда запас «Милки Уэй» подходил к концу, я заменяла их материными «Кранчами», которые мне запрещалось трогать. И хотя она, бывало, неделями не выходила из спальни, какое-то чутье всегда подсказывало ей, что я совершила очередной набег на ее сласти; растирая ей ноги на ночь, я неизменно расплачивалась за нарушение правил тем, что получала пинок в подбородок, от которого не успевала увернуться.
— Сколько тебе еще повторять! — каждый раз говорила она. — Жалкая тварь, ты ничему не учишься! И когда ты только усвоишь, что чужое брать нельзя!
Но кое-что я все же усвоила: героин давал успокоение отцу, прогоняя прочь тяжелые мысли, от которых иначе некуда было бы деться. Моей матери, которая прожила короткую и совершенно никчемную жизнь, героин не давал ничего. Еще подростком она отдала себя наркотику целиком, но конечный результат оказался весьма посредственным. Ее подогретая наркотиком полусонная болтовня была лишена всякого смысла. Так что, подходя к ее кровати, я всегда знала, кто из нас по-настоящему жалкая тварь. А еще я знала, что она обязательно лягнет меня или запустит мокрой тряпкой, которой она обычно вытирала свое распухшее лицо. Только она не могла ударить так, чтобы сделать по-настоящему больно. В основном она просто болтала всякую чепуху. Иногда связную, а иногда и нет.