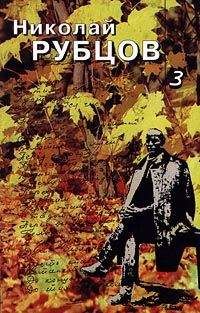Олег Куваев - Через триста лет после радуги
Мы стояли в дурацкой грязной воде чуть не по пояс, и каждый ждал, что кто-то первый произнесет непечатные буквы и полезет в фюзеляж, в холодную металлическую сухость его.
В это время дверца кабины распахнулась, командир высунул всклокоченный профиль и сказал спокойно простые слова:
— С такими, как вы, по нужде не усядусь в пределах одной пустыни. Не говоря про один окоп. Не летать, а пижамы носить вам в спокойных условиях. Вы суслики или люди? Разворачивайте машину против ветра. Пора взлетать!
Дьявол отчаянной энергии свалился на нас, и за час с небольшим совершилось немыслимое: мы развернули самолет против ветра, пропахав поплавками грунт. Ветер мягко налег снизу на плоскости, а командир сдержал слово: вывел машину на нужную глубину. Когда мы уже сидели в самолете и прямо телом ощущали блаженное покачивание на вольной воде, Витя Ципер снял сапоги, вылил из них воду и разрядил обстановку, сказав: «Дрянь сапоги. Оказывается, текут». И все хохотали в гулком резонансе металла, ибо за последние пять часов голенища Циперовых сапог минуты не торчали над водой. В этом хохоте мы понемногу переставали прятать друг от друга глаза, становились собой. Инстинкт спасения от стыда и позора удесятерял физические силы, смех возвращал остальное. Радист смеялся вместе со всеми и, сплюнув, перестал говорить о втором пилоте.
В тот вечер мы долго сидели на чехлах приборов и курили в ста метрах от наших палаток, где нас высадил самолет. Мы собирались с силами, чтоб перенести груз к палаткам. Одинокая фигура Мельпомена вынырнула из избушки, он, видно, издали понял, в чем дело, и, пока мы докуривали свои цигарки и носили груз, он успел заварить гигантскую уху, богатырское произведение кулинарных искусств. Он расставил на столе миски, вынул из пачек галеты и поместил среди всего этого великолепия бутылку компасного спирта Из Гамбурга — след визита за рыбой северных морячков. Потом, размягченные ухой и дозой компасной влаги, мы долго и вперебив рассказывали сегодняшнюю эпопею, вплоть до вдохнувших энергию сакраментальных слов командира.
Керосиновая лампа горела на столе, мягко освещая темные бревна стен, печально и негромко завывала в «Спидоле» далекая труба канадского джаза, и Мишка, ручной горностай, вылез из-под нар послушать вечернюю беседу. Он посверкал черными бусинками глаз и забрался на любимое место: носок сапога Мельпомена из чешской литой резины. Мы долго и молча смотрели на горностая и этот ценный сапог. Цена сапога заключалась в сорок пятом размере, куда можно вместить оленьи чулки и пару портянок для ледяных осенних работ. На ящик же размером с однокомнатную квартиру таких сапог полагается две пары, не больше, отчего и рождается бешеный спрос.
— На месте был ваш командир, — резюмировал Мельпомен. — И значит, не зря, пусть он даже плохой пилот.
— Он отличный пилот, — дружно сказали мы. — Во всем виноват Витька Ципер со своей невезухой.
— Не знаю, — сказал Мельпомен. — Но он командир, так как в нужный момент напомнил вам, что вы люди. Служба бывает до срока, недаром на ней звонки. Долг человека звонков не знает…
Назавтра мы устроили выходной день, а на аэродроме в это время «виноватый» Ципер, наверное, осматривал, обнюхивал и простукивал самолет после вчерашней передряги. Он был хороший механик, и никто не виноват, что ему не везло.
Я решил посмотреть Стадухинскую протоку, что проходила в сотне метров от нас. На этой протоке триста лет назад Михайла Стадухин поставил первый русский поселок на Колыме, и то место до сих пор носит памятное название «Крепость».
Мельпомен давно обещал показать мне Крепость, и мы поплыли туда на весельном дощанике к исходу дня. Стадухинская протока лежала в вечерней глади воды, ивы сбегали к ней вдоль узких отмелей, и если смотреть только на ивы и гладкую воду, то получался совсем Левитан или еще что-нибудь из Средней России. На южном же берегу протоки над торфяными обрывами громоздился дикий хаос беспорядочных лиственниц, закатное солнце падало на них сверху, и куда-то летел не торопясь одинокий ворон.
Крепость размещалась на обрывистом берегу. Лиственницы так и не заселили вырубленный триста лет назад участок, а росла здесь буйная трава, которая всегда буйно растет на отбросах человеческого существования. В той непомерно высокой метлице можно было нащупать ногой, а раздвинув траву, увидеть почерневшие, сгнившие бревна от древних срубов. Над всей этой заброшенностью стоял, покосившись, могучий столб — то ли остатки крепостных ворот, то ли еще какой постройки. Кто-то неведомый долго и тщательно пытался его срубить, но, источив со всех сторон топором, бросил. Наверное, утомился. А, может, одумался.
На берегу я нашел кусок обработанного лосиного рога и несколько глиняных черепков.
Потом мы уселись на обрыв и стали курить махру. Я старался понять, почему Стадухин ввел свои кочи в протоку и именно здесь выбрал место для острога, а не поставил его на коренной Колыме. Может, его прельстила среднерусская картина напротив? Но вряд ли те прокаленные тысячами километров Сибири жесткие мужики были сентиментальны. Об этом я и спросил Мельпомена.
— Радуга, — ответил он. — Стадухинские потомки утверждают, что в этом месте их предок увидел радугу небывалой красоты и принял это за знаменье.
— Кто же рубил этот столб? — спросил я. — И зачем? Убить бы его на месте.
— Сильно сказано, — рассмеялся Мельпомен. — Хорошо, что вы не прокурор.
Когда я посмотрел на него с недоумением, он сказал:
— Давно хотел сообщить, чтобы вы не страдали бессонницей. Я юрист. Адвокат, прокурор и даже бывший судья. Но многие годы назад я испугался сложного трио: человек — закон — справедливость, так как не верил в свой ум, но очень любил людей. Закон не может быть добр к преступнику, адвокат обязан быть добр, ибо он взял на себя защиту, судья же несет тяжкое бремя ответственности перед человеком и государством. Я убежден, что юристом надо родиться, но я не родился им, и я честно стал рыбаком. Я хороший рыбак. Так говорят в совхозе.
Солнце падало на зазубренные верхушки лиственниц, и сладостный дым махры согревал душу. Комары кружились над нами и улетали, вспугнутые запахом репудина, чтоб уступить место другим.
— За что дурацкое прозвище? — спросил я.
— Это давно. По ошибке, — ответил он, опять усмехнувшись. — Перепутал кто-то Мельпомену с Фемидой. Я ж юрист — значит, из клана Фемиды, а прилипло ко мне Мельпомен.
— Дела-а, — вздохнул я. — И это правильно?
— Сейчас я смог бы быть адвокатом, — задумчиво сказал Мельпомен. — За долгие годы я нашел простую формулу: надо верить в людей и им. Даже Михе. И многим, подобным ему. Рыбак на своем месте дороже плохого судьи. Жаль, что я утратил профессиональное право быть адвокатом.
Верхушки лиственниц взорвались кровью, на теневой стороне реки рождалась пленка тумана. И в ушах у меня стоял задумчивый голос: «Во всяком человеке — Человек с большой буквы. Иногда его трудно извлечь, иногда невозможно, но пробовать нужно всегда. Запомни это на всю жизнь, инженер».
В этот момент мучительное счастье минуты сдавило мне сердце, и наступил тот миг, что посещает нас иногда и еще, говорят, должен навестить перед смертью. В этот миг ты можешь собрать воедино треск углей на костре, сгоревшем десять лет назад, запах матери и всех женщин, которых любил, все свои сны и поступки, голоса и портреты людей, встреченных в безудержном беге времени. В этот миг ты чувствуешь себя частью тесного мира, где отвечаешь за все и за всех, а все за тебя, что бы там ни стряслось вчера или завтра.
Анютка, Хыш, свирепый Макавеев
— Эй, Хыш, скоро? — спрашиваю я.
— Уже раскис, — говорит он, не оглядываясь, и перешагивает сразу через пять кочек.
Мы идем на юго-запад. Хыш и я. Идем к тем местам, где есть уличные репродукторы и нет кочек, где гуляют по тротуарам и не едят свиную тушенку.
Перед моим носом качается сутулая спина. Вторые сутки. Вторые сутки маячат передо мной стоптанные задники сапог.
— Терпи, салажонок, — повторяет Хыш.
Я прикусываю от злости губу, но помалкиваю. Возможно, я и есть салажонок по сравнению с ним, видавшим всякую жизнь человеком. Мы идем искать справедливость. Усталая человеческая спина маячит мне на пути к ней.
…Два месяца назад верткий самолет Ан-2 закидывал в горы последнюю партию груза. Среди груза был и я — вновь испеченный представитель рабочего класса. Бывают у человека в девятнадцать лет всякие идеи, которые сажают его на кучу тюков и под грохот мотора несут в неизвестность. Самолет сел у подножия какой-то невеселого вида сопки. Был снег, был темный обдутый камень и загадочные бородачи, бежавшие навстречу. Были три палатки. Я очутился в одной из них.
А на другой день я уже осваивал свою нехитрую «специальность». Надо пробить ломиком стаканчик — ямку, потом взрывник заложит туда аммонал, потом грохнет взрыв, и надо убрать дробленые камни, зачистить дно канавы лопатой. Потом надо снова долбить ямку. После трех ямок я понял, почему на Севере канавы не копают, а «бьют». К вечеру первого дня я твердо знал, что до самой смерти не забыть мне сладковатый запах взрывчатки. Руки мои, спина моя не забудут. Все это немного походило на войну. Канавы ползли на сопку, как упрямые подкопы в осажденную крепость, ахали взрывы, и даже ломик в руках напоминал короткое и тяжелое римское копье. Наша партия искала молибден. Где-то под камнями, под каменной кожей сопки пряталась его руда. Я в жизни не видал молибдена, не знал даже, какого он цвета. Но вместе с другими бил канавы, а по нашим следам шло ученое начальство, которое знало.