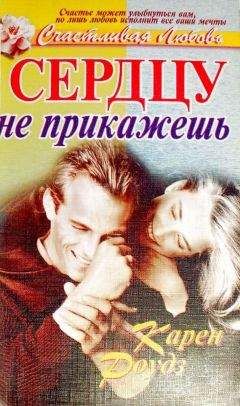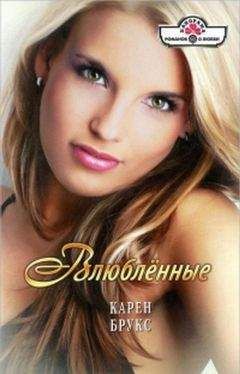Патрисия Вастведт - Немецкий мальчик
Память рисует четкие картинки: вот мальчик взбирается на гору строительного мусора и роется в обломках. Среди кусков кладки попадаются глубокие пустоты, в одной из них рука упирается во что-то жесткое и волосатое. Мальчик замирает от ужаса, но секундой позже расшвыривает деревянные обломки и куски бетона. Страх смешивается с надеждой, абсурдно глупой, живых ведь не осталось, но вдруг он только что коснулся маминых волос? Он нашел ее, нашел! Сейчас мама выберется из-под руин и стряхнет с платья мусор. Скажет, что ему пора сменить рубашку и вымыть руки. Она улыбнется и погладит его по щеке.
Мальчик нашел собаку, раздавленную потолочной балкой. Это волкодав садовника, в последний раз мальчик видел его неуклюжим щенком с огромными лапами. Щенок, как все дети, считал себя новым началом. Он был неугасающей надеждой. Безмятежным прошлым.
Труп пса как будто из папье-маше. Кажется, бедняга никогда не шевелился. А ведь разбито лишь полголовы, лапы все такие же мощные, а одно бархатное ухо вывернуто, как во сне. «Это только собака», — говорит разум мальчика. Сердце молчит.
Мальчик снимает с пса ошейник, надевает себе и, когда над городом встает багровое солнце, хоронит волкодава в мамином саду, где среди пепла, сажи и свежих следов танковых гусениц цветут призрачные цветы. Мальчик нюхает землю и находит чистый, первозданный запах червей, который возвращает в давние времена, когда такой ночи не могло быть. Запах земли несет с собой плач, для которого нет человеческих слов. Мальчик стряхивает с шерсти мусор, поднимает морду навстречу ветру и на растаявшую в небе луну воет о крови и одиночестве.
— Прекрати! — кричат люди, живущие в развалинах напротив. — Мальчишка Ландау спятил, совсем как его английская Mutti, — говорят они друг другу и швыряют в него камни.
Мальчик ничего не чувствует. Теперь он только звук, песнь призрака собаки.
Оглушительное карканье заставило Штефана открыть глаза. Он держал в руках ошейник волкодава, а за окном в небо взмывала стая ворон — они толкались, точно пьяные. Вдали расплывались заснеженные вершины йоркширских холмов.
Погожее утро, играет радио, ему подпевает девушка. Мягкие, тягучие гласные понравились Штефану, такого выговора он еще не слышал. На берегу озера стояла Кристина. Скрестив руки на груди, она лениво макала в воду носок туфли. Рядом на корточках сидела маленькая Мод — ни дать ни взять желтая лягушка.
Яркое солнце согрело лицо Штефана, и он надел ошейник. Через минуту — а может, через пять или десять — вытащил из чемодана ружье. Длинное и изящное, оно не шло ни в какое сравнение с грубыми уродцами, из которых он стрелял по врагу. Полированную ложу украшали цветы и переплетенные ленты из перламутра и серебра.
Штефан прижал ружье к плечу и прицелился. Желтая лягушка рассматривала что-то в ладошке, а потом вдруг побежала прочь от озера. Штефан взял ее под прицел. Мод старалась держать ладони ровно, но вода так и лилась на желтое пальто. Секундой позже девочка исчезла под елками.
Штефан опустил ружье, разжал пальцы — приклад соскользнул и уперся в пол. Нижние ветви елок колыхались, как будто их потревожила Мод, крошечный бегущий вихрь. Штефан дождался, пока они успокоятся, и заметил, что в его сторону смотрит Кристина. Девушка стояла у самой кромки искрящейся на солнце воды, поэтому Штефан не мог вглядеться в ее лицо и определить, видит ли она его.
Да, он сглупил. Блестящий ствол — элементарная ошибка. Каким небрежным он становится! Теперь придется уговаривать Кристину, чтобы не болтала про ружье.
Кристина еще немного посмотрела в его сторону и снова окунула туфлю в озеро.
Когда Штефан вышел на улицу, Элизабет засуетилась. От ее шумной натужной радости у него заскакало сердце, и тотчас захотелось вернуться в комнату.
— Прекрасно выглядишь! — похвалила Элизабет. — Свежий и отдохнувший.
— Рад, что ты снова на ногах, — сказал Джордж, похлопав его по плечу, будто Штефан был инвалидом.
— Давайте прогуляемся, чтобы лица разрумянились, — предложила Элизабет и позвала: — Моди! Моди!
Та все играла у воды. Кристина зевнула, взяла Джорджа под руку, и они все зашагали по овечьей тропе к озеру. Мод вприпрыжку бежала перед отцом и сестрой.
Штефан с Элизабет шли последними. Элизабет говорила без остановки, совсем как его мать, когда ее что-то тревожило.
Едва поднялись на холм, наползли тучи, превратив озеро в темно-зеленый металлический овал. Элизабет уверяла, что Кент Штефану понравится: у них уютный старый дом, рядом море, Лондон тоже недалеко, можно на целый день поехать. Иными словами, в каникулы скучать не придется. Штефан ездит верхом? А театр любит?
Штефан внимательно слушал, в нужных местах улыбался и кивал. Он чувствовал, какой вопрос мучает Элизабет, — вопрос, на который Штефан ни за что не ответит. Элизабет хотела услышать, как умерла его мать.
Штефану рассказала Герда Зефферт. Однажды ночью на Мюллерштрассе они голыми лежали на Гердином матрасе под ворохом одежды и расчесывали блошиные укусы. Кошачий запах Герды перебивал все остальные. Девочка хихикала, и Штефан еще крепче прижимал ее к себе. Он знал: волна радости вот-вот швырнет Гёрду в пучину ужаса и она примется стучать себя по голове и дергать за волосы, выцарапывая из себя воспоминания.
— Все в порядке, — шептал Штефан и целовал Герду в губы, чтобы не хихикала, но она переводила дыхание и начинала снова. «Может, двинуть ей, чтобы сознание потеряла? Хоть отдохнем немного, выспимся», — думал Штефан. Он никогда не спрашивал, из-за чего хохочет Герда и с кем воюет. Они оба видели такое, чего вспоминать не следовало, поэтому оставалось лишь ждать и терпеть.
Штефан пытался ее отвлечь:
— Герда, помнишь детский сад? Помнишь, мы построили снежный домик и думали, что он волшебный, потому что внутри снег сиял голубым? Летом ящерицы прилипали к стене пекарни, а сливы падали прямо в руки, помнишь?
Герда фыркнула, словно Штефан рассказал анекдот, но положила голову ему на плечо и задышала спокойнее. Чем бы еще ее отвлечь?
— А помнишь, на Рождество мы спрятались под столом и объелись трюфелями и штолленом?
От таких воспоминаний потекла слюна. Штефан тут же увидел полированный пол и кружевную скатерть. Отблески пламени камина просачивались сквозь нее и падали на нарядное платье Гёрды, напоминавшее пестрый гриб. В косах у нее были большие атласные банты. Штефан и Герда спрятались под столом и набивали животы твердым марципаном, шоколадом, изюмом и засахаренной вишней. Бесстыдно засовывали в рот целые горсти и не могли разговаривать. Из большой чаши с пуншем пахло гвоздикой и апельсинами, а от камина — смолистыми дровами. Бум! Бум! — на стол опускались тяжелые тарелки. Штефан запомнил официанток, прямых как палки и апатичных, словно подавать еду было невыносимо тяжело. Взрослые говорили, что все евреи — угрюмые злыдни и не желают трудиться.
В большом зале собрались военные и партийцы с женами. Все радовались: наступили рождественские праздники, Вайнахтен, а Германия — самая прекрасная страна на свете.
Но что-то было не так. В воздухе витал аромат привезенной из лесу ели. Штефан жалел бедняжку: несчастная пленница тосковала по дому. Елка задыхалась в жаркой духоте, и никто даже не замечал.
Возбужденные голоса за столом, гомон то громче, то тише. Штефан услышал маму, ее сильный английский акцент сглаживал зазубрины слов. Ее немецкая речь звучала неуверенно и состояла из одних вопросов. Подобно пловцу в бурном море, мамин голос то возносился над остальными, то совершенно исчезал. Как мама ни скрывала, Штефан чувствовал: ей неуютно. В отличие от жен других партийцев, она была не в своей тарелке, и это пугало Штефана, хотя он не понимал почему.
Все это осталось в прошлом — и военные, и умирающая елка, и мама. Теперь они с Гердой жили в чьем-то сгоревшем доме на Мюллерштрассе.
Штефан закутал Гердины плечи. Она уснула. Самого его тоже клонило в сон, и он не сопротивлялся. Герда вытянула руку. Тонкая, как веточка, она давила на пустой живот Штефана. Герда шевельнулась и забормотала. Ясно: молчать ни в коем случае нельзя.
— Герда, помнишь каноэ из ковриков? Лето, жара, и мы сплавлялись по Миссисипи у меня в саду. Хеде нам еще медовые соты дала…
Герда села так резко, что одежда разлетелась, и повернула к Штефану полупрозрачное заостренное личико.
— Ага, милая Хеде, толстуха, ваша домработница, дала нам соты. Она всем об этом рассказала.
Гердин голос звучал дружелюбно, совершенно нормально, и, хотя она проснулась, Штефан радовался, что сумел ее отвлечь. Он приподнялся на локте и убрал с ее щеки волосы.
— Хеде всем рассказала, что угощала нас сотами? Интересно, зачем?
— Нет! — взвизгнула Герда. — Глупости говоришь! Не об этом! Хеде всем рассказала, что твоя мама дружит с евреем. С англичанином. А ты не знал?