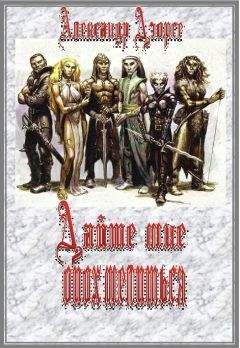Роберт Музиль - Душевные смуты воспитанника Тёрлеса
Байнеберг пробормотал что-то насчет «упражняться», «готовить ум», «еще ни за что нельзя браться», «позднее».
— Готовиться? Упражняться? Для чего же? Ты знаешь что-то определенное? Ты, может быть, на что-то надеешься, но и тебе это совершенно неясно. Вот что выходит: вечное ожидание чего-то, о чем ничего другого не знаешь, кроме того, что ждешь этого… Это так скучно…
— Скучно… — протяжно повторил Байнеберг и покачал головой.
Тёрлес все еще смотрел в сад. Ему казалось, что он слышит шуршанье сухих листьев, которые собирал ветер. Затем настал тот миг полнейшей тишины, который всегда наступает незадолго до того, как совсем стемнеет; очертания предметов, все сильнее растворявшиеся в сумерках, и краски, которые расплывались, — казалось, застыли на несколько секунд, переводя дух.
— Послушай, Байнеберг, — сказал Тёрлес, не оборачиваясь, — когда смеркается, всегда, видно, бывает несколько мгновений совершенно особого рода. Сколько раз это ни наблюдаю, мне вспоминается одно и то же. Я был еще очень мал, когда однажды играл в этот час в лесу. Служанка отошла. Я этого не знал, и у меня было ощущение, что она еще где-то близко. Вдруг что-то заставило меня поднять глаза. Я почувствовал, что я один. Все вдруг совсем затихло. И когда я оглянулся, мне показалось, будто деревья молча стоят вокруг и наблюдают за мной. Я заплакал. Я почувствовал себя покинутым взрослыми, отданным на произвол неживых созданий. Что это такое? Я часто чувствую это снова. Это внезапное безмолвие, словно речь, которой мы не слышим?
— Я не знаю, что ты имеешь в виду. Но почему бы у вещей не быть языку? Ведь не можем же мы со всей определенностью утверждать, что у них не бывает души!
Тёрлес не ответил. Рассуждения Байнеберга были ему неприятны.
Но вскоре тот начал:
— Почему ты все время глядишь в окно? Что ты в этом находишь?
— Я все еще думаю, что это может быть.
На самом деле он думал уже о чем-то другом, в чем не хотел признаться. Высокое напряжение, сосредоточенность, с которой прислушиваешься к серьезной тайне, и ответственность, которую берешь на себя, заглядывая в еще не описанные связи жизни, он смог выдержать только один миг. Затем им опять овладело то чувство одиночества и покинутости, что всегда следовало за этим слишком высоким запросом. Он чувствовал: здесь таится что-то, пока еще слишком трудное для него, и мысли его убегали к чему-то другому, тоже таившемуся здесь, но как бы только на заднем плане и в засаде, — к одиночеству.
Из заброшенного сада к освещенному окну нет-нет да прилетал листок и, уносясь, врывался в темень светлой полоской. Темнота, казалось, сторонилась, отступала, чтобы в следующее мгновение продвинуться вперед снова и неподвижно, стеной стать перед окнами. То был особый мир, эта темень. Стаей черных врагов напала она на землю и убила людей, или прогнала их, или еще что-то сделала, чтобы от них и следа не осталось.
И Тёрлесу показалось, что он этому рад. В эту минуту он не любил людей, больших и взрослых. Он никогда не любил их, когда было темно. Он привык воображать тогда, что их нет. Мир представлялся ему после этого пустым, темным домом, и в груди у него все трепетало, словно ему пришлось теперь пробираться из комнаты в комнату — через темные комнаты, о которых никто не знал, что таят их углы, — на ощупь перешагивать пороги, куда уже не ступит ничья нога, кроме его собственной, — пока в одной из комнат вдруг перед ним и за ним не закроются двери и он не предстанет перед самой владычицей черных стай. И в этот миг защелкнутся замки всех других дверей, через которые он прошел, и лишь далеко перед стенами тени темноты будут, как черные евнухи, стоять на страже и даже близко не подпустят людей.
Такого вида была его одинокость, с тех пор как его тогда бросили — в лесу, где он плакал. Она обладала для него прелестью женщины и нечеловеческого. Он чувствовал ее как женщину, но ее дыхание было лишь стеснением в собственной груди, ее лицо — головокружительным забвением всех человеческих лиц, движения ее рук были мурашками, бежавшими у него по телу…
Он боялся этой фантазии, сознавая ее необузданную тайность, и его беспокоила мысль, что такие картины будут приобретать все большую власть над ним. Но как раз тогда, когда он казался себе особенно серьезным и чистым, они-то и возникали. Как реакция, можно сказать, на эти мгновения, когда он предугадывал чувственное знание, которое уже в нем готовилось, но еще не соответствовало его опыту. Ибо в развитии всякой тонкой нравственной силы есть такая ранняя точка, когда она ослабляет душу, чьим самым смелым опытом она, возможно, когда-нибудь будет — как если бы корни ее должны были сперва опасть, чего-то ища, и разворошить грунт, который им потом суждено укрепить, — отчего у юноши с большим будущим бывает обычно богатое унижениями прошлое.
Пристрастие Тёрлеса к определенным настроениям было первой приметой того душевного развития, которое позднее проявилось в таланте удивляться. Дело в том, что в дальнейшем им прямо-таки овладела одна странная способность. Она заставляла его воспринимать события, людей, предметы, а порой и самого себя так, что у него при этом возникало чувство, с одной стороны, неразрешимой непонятности, с другой — необъяснимого, ничем не оправданного родства. Они казались ему до осязаемости понятными и все же никогда без остатка не растворяющимися в словах и мыслях. Между событиями и его «я», даже между его собственными чувствами и каким-то сокровеннейшим «я», которое жаждало быть ими понятым, всегда оставалась разделительная черта, по мере его приближения к ней отступавшая от его желания, как горизонт. Да, чем точнее охватывал он мыслями свои ощущения, чем более знакомыми становились они ему, тем более чужими и непонятными делались они для него одновременно, так что даже думалось уже, что не они отступают от него, а он сам удаляется от них и все же не может отделаться от ощущения, что приближается к ним.
Это странное, труднообъяснимое противоречие заполняло потом долгий отрезок его духовного развития, оно, казалось, разрывало ему душу и угрожало ей как главная ее проблема.
Пока же тяжесть этих борений сказывалась только в частой внезапной усталости и словно бы уже издали пугала Тёрлеса, как только какое-нибудь сомнительное, странное настроение — как сейчас — напоминало о них. Он представился себе тогда таким же бессильным, как узник, на котором поставили крест, одинаково отрезанным от себя и от мира; ему впору было кричать от пустоты и отчаяния, а он вместо того словно бы отворачивался от этого серьезного и полного ожидания, измученного и усталого человека в себе и прислушивался — еще испуганный этим внезапным самоотречением и уже восхищенный их теплым, грешным дыханием — к шепчущим голосам, которые находило для него одиночество.
Тёрлес вдруг предложил расплатиться. В глазах Байнеберга блеснуло понимание; он знал это настроение. Тёрлесу это согласие было противно; его отвращение к Байнебергу ожило снова, и он почувствовал себя опозоренным общностью с ним.
Но другого и нечего было тут ждать. Позор — это добавочное одиночество и новая мрачная стена.
И они молча зашагали по уже определенному пути.
В последние минуты прошел, по-видимому, небольшой дождь — воздух был влажный и теплый, вокруг фонарей дрожал пестрый туман, а тротуары поблескивали.
Тёрлес плотно прижал к телу ударявшуюся о плиты мостовой шпагу, но даже стук каблуков оглушал его почему-то.
Вскоре под ногами у них была мягкая земля, они удалились от центра города и по широким деревенским улицам шагали к реке.
Черная и ленивая, она с грудным бульканьем ворочалась под деревянным мостом. Один-единственный фонарь стоял тут с пыльными и разбитыми стеклами. Свет беспокойно гнувшегося от ветра пламени падал иногда на бегущую волну и растекался по ее тылу. Бревна настила отзывались на каждый шаг… откатывались вперед и возвращались на место…
Байнеберг остановился. Противоположный берег густо порос деревьями, которые, поскольку дорога сворачивала под прямым углом и шла дальше вдоль воды, стояли грозной, черной, непроницаемой стеной. Лишь после осторожных пои сков нашлась узкая, скрытая тропка, которая вела прямо вглубь. Густой, сильно разросшийся подлесок, за который задевала одежда, каждый раз обдавал брызгами. Вскоре им пришлось снова остановиться и зажечь спичку. Стояла полная тишина, даже плеска реки не было уже слышно. Вдруг до них донесся издалека неясный, прерывистый звук. Он походил на крик или на предостережение. Или просто на возглас непонятного существа, которое вот-вот вырвется к ним из кустов. Они двинулись на звук, остановились, двинулись снова. Всего прошло, вероятно, четверть часа, когда они, облегченно вздохнув, различили громкие голоса и звуки гармони.
Деревья стояли теперь реже, и после нескольких шагов они оказались на краю прогалины, посреди которой грузно высилось квадратное трехэтажное здание.