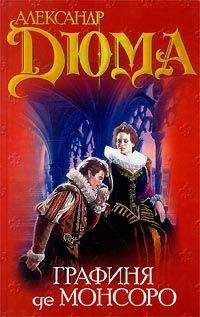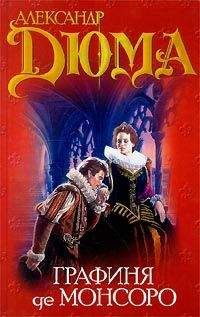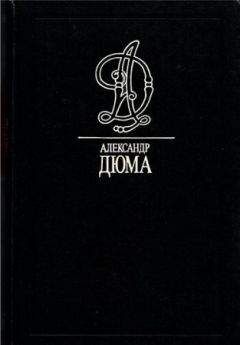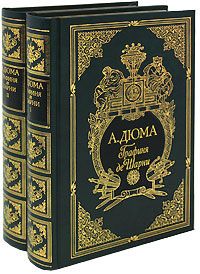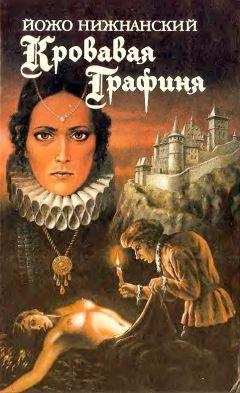Марлена де Блази - Амандина
Подавляя смешки, послушницы одели на меня юбку, тяжелый, пахнущий потом плащ, опустили капюшон на лицо.
— Ты не долгое время будешь новичком, Анник.
Старинный звонок дергается за веревку, мое сердце трепещет и замирает, голова наклонена, руки сложены, я чинно следую за старым монахом через атласную темноту к вашей личной часовне, Фабрис. Сколько лет нам было тогда, ваше преосвященство? Вам, молодой, блестящий священник, и мне, месяц или два назад одевшей покрывало? Насколько мы были грешны, а может быть, это жестокость, приправленная жаждой?
— Я делаю это для вас, мой дорогой папа.
Мадонна, молись за нас.
И когда я уже не могла больше переносить мое собственное бесстыдство и хотела уйти, вы уговорили меня. Вы и потом игуменья.
— У всех нас есть наши собственные несчастья, дорогая. Обман и предательство — наши кровные качества, унаследованные от языческих предков. Ты должна понять выходки богов. А что касается нас, невест Иисуса, то он успокаивает наш дух, но оставляет в тоске нашу плоть. Кроме того, давление девственности отвлекает. Лучше отказаться от нее. А лучше всего отдать ее Фабрису. Он будет когда-нибудь епископом. Помяни мое слово.
Презирая себя, я приняла обет. В течение всех этих лет я отвечала на каждое ваше требование. На каждый зов его высокопреосвященства летела к постаревшему, желчному бонвивану. Моему Дедалу. Кстати, уместно ли иметь нос картошкой того же самого фиолетового оттенка, что и ваша одежда, монсеньор? Как много вы сделали. Школы, общины — последствия моей работы к вящей вашей славе. А моя награда? Пятилетняя миссия по спасению нездорового незаконнорожденного младенца.
— Ах, Филипп, ты напугал меня. Я чуть не оступилась. Что ты здесь делаешь? — Паула искала свой носовой платок.
Филипп, отец Филипп — старый священник, который ранее открыл дверь графине и ее свите.
— Я пришел поговорить с тобой. Я стоял здесь некоторое время, но ты была так далеко отсюда, думала о чем-то далеком, я стоял тихо, ждал… — объяснил Филипп.
Паула кивнула, говоря:
— Все на свете нуждается в регулировке. Я подумала о переменах.
— Эти перемены, мне кажется, к лучшему. Может быть, для тебя и для меня больше, чем для остальных. Пойдем ко мне в сад, Паула.
— Я не могу сейчас. Я должна позвонить епископу и…
— Он подождет. Я не знаю, почему это так тревожит тебя. Ты бледна как смерть. Такой ты была, когда новые претендентки в послушницы ловили взгляд Фабриса. Правда? Или ты завидуешь ребенку?
— Сначала испугалась, теперь завидую. И в чем же еще меня обвинят сегодня? Филипп, ты старый дурак. Я думала только о том, что девочка и ее няня не должны жить в нашей резиденции, не место им здесь.
— Завидуешь. И если я старый дурак, то ты тоже дура, только тремя годами моложе. Сколько лет из наших жизней мы провели вместе? Ты, Фабрис и я — последние на этом свете.
— Да, только он преуспел много лучше, чем ты и я, Филипп. Он процветает, в то время как мы с трепетом выполняем его распоряжения.
— Это в порядке вещей, это вполне мог быть и я, если бы меня выдвинули на этот пост и продвигали. Я тоже был выпускником академии, в конце концов ему сослужила службу его приветливость. Но какое теперь это имеет значение, когда мы так близки к порогу? Я благодарен ему за то, что он прислал меня сюда к тебе. И я скажу, Паула, он сделал доброе дело нам обоим. Он вообще всегда о нас заботился. И чего ты не хочешь видеть сейчас, это то, зачем он принял предложение взять на себя заботу об этом ребенке… Ты не видишь, что он дает нам последний шанс.
— Какой шанс?
— Смириться, я подчеркиваю это слово. Стать обычными. Я думаю, наше призвание…
— Возможно, твое призвание. Я еще слышу зов, Филипп.
— Именно это я и хотел сказать. Даже при наличии призвания жизнь в безбрачии — не типичная, не обыкновенная, но мы-то типичные и обыкновенные. Многие из нас, более всего бенедиктинцы и иезуиты, на самом деле девственники. Неважно, что думает толпа, но жизнь в безбрачии чревата страшными отклонениями, мы ведем монашеское сражение с плотью, но скорее — с сердцем. Я думаю, для нас больше значит любовь к кому-то другому, чем к богу. Отрицать это, отрицать годами тоску по личной любви, отказаться от единственного предназначения, дающего жизнь, нам, людям религии, дано только путем душевных мук. В лучшем случае, мы неуклюже стареем, отталкивая природу до последнего. Называя это благочестием.
— У меня была любовь, и она принесла мне тоску, Филипп.
— Чего ты ожидала? Что он покинет старую матушку Церковь и станет жить с тобой? Он никогда не имел права выбора, Паула. Ты и все остальные до тебя и после тебя были лишь передышкой. Глотком воздуха перед новым погружением. Его нервы щекотал отрыв от довлеющей над ним власти. Ты и другие были символом протеста, какой он только смог себе позволить.
— Чего ты хочешь достичь этим разговором, Филипп? Ты хочешь встревожить меня? Я не нахожу объяснения.
— Я пытаюсь уговорить тебя пересмотреть свое враждебное отношение. Особенно по отношению к пятимесячной девочке. Паула, посмотри на меня. Видишь ли ты, как я опустошен? Я — твое зеркало. Как ты можешь отказаться от последней возможности, это безусловно последняя возможность, жить как все другие люди? Пока мы еще в силах, давай представим себе, что мы бабушка и дедушка этого ребенка. Бог знает, как мы поднаторели в искусстве обмана. Ты даже больше, чем я, Паула. Кто знает, может этот обман станет для нас правдой. Чудом на пути надвигающейся зимы? Вдруг мы опять начнем чувствовать. Ничто для нас сильно не изменится. Ты сможешь исполнять свои обычные обязанности, и я тоже, но, может быть, мы сможем с Божьей помощью полюбить ее.
Глава 5
На более высокой скорости, чем на пути к монастырю Сент-Илер, паккард спустился на другую улицу, обсаженную липами, а не платанами, его пассажиры — графиня Чарторыйская, няня и мужчина с тонкими белыми усами — составляли теперь чуть менее сплоченную группу, чем час назад. Прежде чем доставили к цели предмет своей заботы. Прежде чем перевезли младенца, как товар. Ребенка изгнали. Его взгляд — ясный темно-синий взгляд ягненка, согласного на жертву, сила этого взгляда до сих пор жила в пышном сером салоне. Руки няни неловко лежали у нее на коленях, или так казалось графине, которая смотрела теперь на мужчину с тонкими белыми усами, Туссена, который подергивал губами, надвинув хомбург глубоко на лоб и закрыв глаза — видимо, размышлял.
Какими отвратительными сообщниками мы стали теперь, думала графиня. И откуда эта боль, эта тяжесть в моих собственных руках? Это похоже на фантомную боль в ампутированном органе. Ее ли я чувствую? Старый неопрятный священник никогда не вознесет за меня молитву, еще менее вероятно, что это сделает потная сука монахиня. О господи, что я наделала? Преодолевая боль, графиня скрестила руки под грудью, продев их в широкие меховые рукава своего жакета. Она плотно зажмурила глаза, и постепенно боль и взгляд ягненка оставили ее.
Это сделано. Его изгнали. Как далеко до вокзала? Отдельное купе. Пожалуйста, не опоздайте к поезду. Я должна побыть одна. Я должна подумать. Эта партия сыграна, и пришла пора подумать об Анжелике. Как представить ей события? Я должна быть осторожной, взвесить и обдумать каждое слово, прежде чем говорить, согласовать все обстоятельства в каждой части лжи. Я осторожно подойду к этому. Я обниму ее и расскажу все, не откладывая. Ребенок умер.
Она скончалась от порока сердца, как и предупреждал доктор при родах, прежде, чем можно было применить хирургическое вмешательство. Предупреждал, но Анжелика не должна ничего знать относительно того, что врачи предложили операцию, обеспечивающую шансы на выздоровление. Я должна подчеркнуть, что доктора из Швейцарии оставляли мало надежды на ее спасение, заверяя меня, что если она и перенесет операцию, то в лучшем случае всегда будет очень слабенькой. Я опишу симптомы, при которых ребенок испытывал бы страдания. Я объясню: все считали, что ранняя смерть была «к лучшему». Когда она спросит, если она спросит, почему я не позаботилась о том, чтобы привезти ее в Польшу, чтобы похоронить в семейном мавзолее, я объясню, что рождение и смерть ребенка должны остаться нашим личным делом. Она поймет это. Я предложу ей поехать в Швейцарию на несколько дней, чтобы навестить место, где похоронен ребенок. Я расскажу ей, как это было, повторю слова священника: «Умершие дети — это ангелы, призванные к Богу, они ничем не согрешили на земле». Да, я скажу ей, что так говорил священник. Я где-то это читала и подумала тогда: какая пошлость. Потом постараюсь убедить, что визит на могилку не имеет смысла. Она будет тогда жить своей жизнью. Она воспримет это — ребенок, мужчина — как бы со стороны. Я уверена. Но свидетельство о смерти, куда я его положила? Возможно, оно у Туссена. Я должна напомнить ему, чтобы он дал его мне в поезде. Ах, как я устала. Обо всем ли я подумала? Дорогой старый Йозеф, как бы я желала, чтобы ты был здесь и ответил на мои вопросы. Помог мне закончить работу.