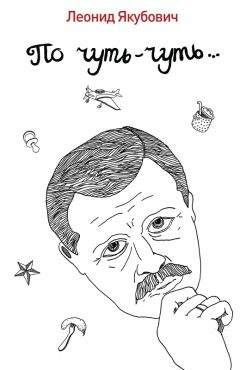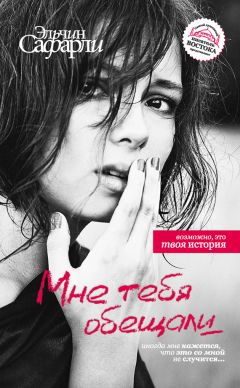Леонид Пантелеев - Верую…
Утром я проснулся на полу милицейской камеры. Как я себя чувствовал, говорить не надо. На теле и на лице не было живого места, что называется. Через полчаса меня отвели к дежурному.
— Получите ваши вещи, — сказал тот. Из железного ящика-сейфа он достал и передал мне бумажный сверток. В старую газету были завернуты мой брючный ремешок, бумажник с деньгами, серебряная мелочь и — отдельно, в носовом платке — золотой крестик на золотой цепочке. С удивлением вспоминаю, что по поводу креста не было произнесено ни одного слова. Даже когда я при милиционерах надевал через голову крест, никто ничего не сказал, не усмехнулся даже.
Через полчаса я был уже в уголовном розыске, где меня встретили как старого знакомого…
Впрочем, я чувствую, что сильно затянул этот рассказ. Попробую рассказывать короче.
Встретили меня в розыске, как я уже сказал, грубо, заполняя анкету, обращались на «ты». Я отвечать отказался. Три раза меня отводили в общую камеру и три раза вызывали снова.
— Отвечать будешь? — спрашивал меня мальчишка-следователь моего приблизительно возраста.
— На «ты» не буду, — отвечал я и снова шел в камеру.
И вдруг тот же следователь вызывает меня еще раз:
— Садитесь.
Я сел.
— А впрочем — идемте.
— Куда?
— К заместителю начальника.
Сам этот юный садист (как говорили в камере сведущие люди — бывший уголовник, карманник) ведет меня к замначу УР’а, тот поднимается навстречу, с удивлением оглядывает меня и говорит:
— Вы Пантелеев?
— Да.
— Писатель?
— Писатель, — с трудом выжевываю я пересохшими губами.
— Так вот, товарищ Пантелеев, берем с вас подписку о невыезде, и — можете считать себя свободным.
И заметив на моем лице недоумение, объясняет:
— Только что звонил, ходатайствовал за вас Максим Горький.
На площади Урицкого у подъезда уголовного розыска меня ждал верный друг мой Костя Лихтенштейн. При моем появлении он заметным образом содрогнулся. Но и на Костином лице тоже было немало следов вчерашнего побоища, — достаточно сказать, что нижняя Костина губа была надорвана и заклеена черным пластырем.
— Чтобы не забыть, — невнятно сказал Костя. — Тебя просил зайти к нему в «Европейскую» гостиницу Горький.
— Когда зайти?
— Сейчас же. Сию минуту.
— То есть как сию минуту?
— Да. Велел — не заходя домой.
И пока мы шли с ним по Дворцовой площади и Невскому проспекту, Костя рассказал мне, как все получилось. Чуть свет он прибежал к моей маме и сказал, чтобы она не беспокоилась, что я жив, только попал в несколько затруднительное положение. От мамы он узнал адрес С. Я. Маршака и побежал — через весь город — к нему. Денег ни на трамвай, ни на телефон-автомат у Кости не оказалось. Когда он появился на улице Пестеля у Маршаков, Самуил Яковлевич принимал ванну. Ему через дверь сообщили, что с Пантелеевым что-то случилось (снова что-то случилось!)… Самуила Яковлевича — как это часто бывало в его жизни — осенило. Задав себе вопрос: «Что можно сделать?» — он тут же вспомнил: «В Ленинграде Горький!» И, мокрый, голый, в накинутой на плечи махровой простыне, стал дозваниваться к Горькому в «Европейскую» гостиницу. Оказалось, что Алексей Максимович болен, гриппует. Крючков все-таки согласился доложить ему. Алексей Максимович стал звонить в розыск. А дозвонившись, просил Крючкова сообщить о результатах Маршаку и попросил передать, чтобы я сразу же, не заходя домой, шел к нему.
В те годы на Невском, угол Мойки, в доме, где когда-то в кофейне Вольфа завтракал перед дуэлью Пушкин, доживало короткий нэповский век крохотное — в одно окно — кафе. Услышав запах кофе, я вспомнил, что со вчерашнего вечера не ел, и предложил Косте зайти позавтракать. Стена в этом кафе была зеркальная. Я увидел в зеркале свое отражение, свою окровавленную, исполосованную физиономию и понял, что в таком виде в «Европейскую» гостиницу я идти не могу — просто меня швейцар не пустит. Зашел в уборную и полчаса приводил себя в порядок — отмывал кровь, чистил костюм, приглаживал волосы.
В гостиницу меня пропустили. Но когда я вошел в комнату, где лежал больной Алексей Максимович, он встретил меня громким хрипловатым хохотом:
— Ну и ну! Здорово вас отделали…
У его постели сидел пожилой румяный человек с красивыми руками пианиста. Это у его гроба пять лет спустя стояли Шварц, Олейников и академик Павлов.
Горький расспрашивал меня, как было дело. Я рассказал.
Он уже не смеялся, слушал, покачивал головой. Потом попросил Грекова, чтобы тот осмотрел меня. Профессор предложил мне раздеться.
Разоблачаясь, я снял крест. Оба они видели это, но ничего не сказали.
На теле у меня Греков обнаружил двадцать шесть синяков и кровоподтеков. То, что он осмотрел меня, обнаружил и подсчитал эти синяки, в дальнейшем очень пригодилось мне. Но об этом дальнейшем я здесь рассказывать не буду — не о том сейчас речь.
Греков собрался уходить. Стал и я прощаться с Горьким. Он удержал меня:
— Посидите.
После ухода Грекова, после небольшой паузы Алексей Максимович сказал:
— Видите ли… Пить — довольно веселое занятие. В вашем возрасте я сам был не дурак по этой части. Но вам, по-видимому, пить нельзя. Есть противопоказания. Нехорошо пьете. Надо бросать.
— Обещаю вам, Алексей Максимович, — сказал я с необычной для себя порывистостью. — С сегодняшнего дня бросаю…
А когда через несколько минут прощался с ним, он задержал мою руку в своей и глухо сказал:
— Вы в Бога верите?
— Да, — ответил я.
— Давно?
— С детства.
Что он на это сказал и сказал ли вообще что-нибудь — не помню. После этого я встречался с ним много раз, недели две гостил у него — в Москве и на даче. К этому вопросу он никогда не возвращался.
3Да, я сказал правду, что верил в Бога с детства. Но как же, через кого и в какую минуту пришла ко мне эта вера?
Часто говорят: он вырос в религиозной семье. В случае со мной так, пожалуй, не скажешь. Назвать религиозным отца я не решусь. Он крестился перед сном, перед едой и после еды, носил нательный крест (тот самый, что я снимал и надевал в присутствии Горького и профессора Грекова), ходил, вероятно, как положено было, к исповеди и к причастию, но на богослужении в храме я видел его, если не ошибаюсь, всего один раз — на пасхальной заутрене 1917 года в домовой церкви Второго Петроградского реального училища. Что отец верил в Промысел Божий, в этом я не сомневаюсь. Но, как рассказывала мне впоследствии моя тетушка, сводная сестра отца, от церковной религиозности его оттолкнул — еще в отроческие годы — катехизис, та книга, по которой в старших классах гимназии и реального училища проходили, вернее — долбили, зазубривали Закон Божий и основы богословия. Это и в самом деле нечто ужасное, бездуховное, угрюмо-чиновное, схоластическое в наидурнейшем смысле этого слова. Скольких, я думаю, эта книга должна была отпугнуть, отвратить от церкви!
Отец был человек суровый, замкнутый, духовно, как мне представляется, не очень богатый, а главное — понимающий, чувствующий эту свою ущербность и потому страдающий. Способствовала этому и его безукоризненная честность, фанатическое благородство, которое я рано увидел, заметил, оценил и о котором с восхищением, а порой даже и с некоторым страхом говорили и после его гибели все, кто его знал. Среди моих родственников был только один, напоминавший мне немножко отца. Это был некто Коля Спехин, мамин троюродный брат, дядя Коля, как я его звал. Недолго звал. Между прочим, из всех наших родственников-мужчин только эти двое — мой отец и Коля Спехин — с первых дней войны оказались на фронте. Все другие ловчили, откупались, носили земгусарскую или санитарскую форму, правдами и неправдами через влиятельных знакомых, с помощью всяких шарлатанов и проходимцев, даже через самого Распутина добывали белые билеты… И все эти люди долго и удачливо, по их понятиям, жили. А мой отец и дядя Коля оба погибли: вольноопределяющийся Спехин — в самом начале войны, поручик Еремеев — в конце ее, на исходе…
Никакой видимой душевной близости с отцом у меня не было. О какой близости можно говорить, если, обращаясь к отцу, я называл его на «вы». Но образ отца я с гордостью и любовью пронес в памяти своей и в сердце через всю жизнь. Сказать светлый образ — было бы неправильно. Скорее — темный, как почерневшее серебро. Рыцарский — вот самое точное слово.
Моим первым другом и первым наставником в вере была моя мама. От кого приняла веру она — не знаю. Матери лишилась она очень рано — шести или семи лет. Мачеха была молодая, легкомысленная, невиданной красоты. В церковь ходила, обряды блюла, но собственных детей воспитать в религиозном духе не сумела. Несколько лет назад, на похоронах одного дальнего родственника, ее дочь, моя тетя, сказала мне, выходя из церкви: