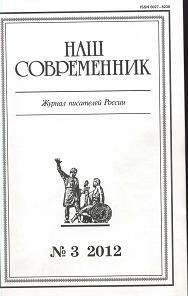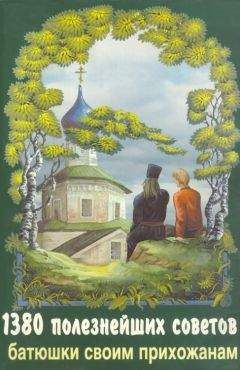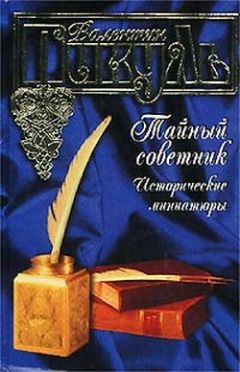Валентин Распутин - В ту же землю
Пашута сказала о смерти матери, но о самом главном, ради чего приехала, молчала, ожидая подходящего момента. Встряхиваясь среди редкословного разговора, тревожно всматривалась она в окно: время шло. Время шло, а ничего не сделано, наступивший день начинал придавливать не снятым с него грузом. Так хорошо прежде бывало со Стасом! Она словно бы погружалась в другую, нереальную жизнь, даваемую за страдания, где все к ней благоволило, все приносило утешение, — и как из теплой обласкивающей воды выходила потом на берег, встречающий холодным безучастием. Здесь, в этих стенах, она, казалось, и оставалась постоянно той своей частью, которая не потеряла радости, сюда приходила на свидание с нею, здесь пополняла свои душевные запасы. А Стас только устраивал эти встречи, приводил ее, приходящую, потайными ходами к живущей в счастливом затворничестве.
А теперь и здесь ее не сыскать.
Пашута наблюдала за Стасом: тот и не тот человек. Держался по-прежнему прямо и потому казался высоким, все так же коротко стриг седую крупную голову. Рядом с нею он выглядел хоть куда, и она правильно сделала, отойдя от него, избавив Стаса от неизбежно явившегося бы чувства жалости и брезгливости. Но и в нем еще глубже врезались морщины в продолговатое, мужественно вылепленное лицо с волевым подбородком — врезались густо и не подчеркивали, а скорее перечеркивали мужественность, оттеняли жизнь, потерявшую цель. И загас в глазах знаменитый высверк, вспыхивавший неожиданно и ярко, как молния, который умел сразить наповал. Глаза смотрели печально и терпеливо.
Тянуть было некогда. Пашута, как и по земле ходила тяжелой поступью, и здесь двинулась к цели без тонкостей. Ничего, что можно было подостлать под просьбу, смягчить ее, не находилось, она спросила напрямую:
— Ты, Стас Николаевич, не сделаешь нам гроб?
— Гроб? — Нельзя было понять, удивился ли он. Но смотрел на нее длинным пристальным взглядом, забывчиво держа на весу кружку с чаем. Разве там не сделают гроб? У них правило: покойник ваш, а гроб наш. Разве не так?
Она покивала: так. И сказала наконец то, к чему уже приступила за ночь. Сказала с замедлением, вдавливая слова:
— Я, Стас Николаевич, задумала мать сама похоронить. Без них. Мне к ним идти не с чем.
Он невольно перешел на тот же выговор, давя на каждое слово:
— Без них, дорогая Пашута, туда не попасть. Это не деревня. Сердце продавай, печень, селезенку, душу… Теперь все покупают, но иди к ним.
— Мою печенку-селезенку никто не купит. Я бы продала… — И с отвращением отказалась: — Вру, не продам. И продавать не буду, и к ним не пойду.
— У многих не с чем идти, не у тебя одной, — продолжал он, не убеждая, а отыскивая выход, который можно было бы предложить. — Но собирают как-то. Теперь так и хоронят: с миру по копейке. Соберем и тебе. Есть же у тебя родственники, друзья, знакомые…
Она освободила голос и — показалось — с облегчением ответила:
— У меня никого нет.
— У всех есть. Ты гордыню свою не выставляй. Не тот случай.
— А у тебя родственники, друзья есть? — спросила она, задетая «гордыней». — Что молчишь, Стас Николаевич? Есть они у тебя теперь? А сколько их увивалось возле тебя! Не разлей вода до гробовой доски! К многим ты пойдешь, так чтобы ноги несли?
— Ноги наши по другой причине не несут. Ты путаешь…
Пашута перебила его. На нее, намолчавшуюся, настрадавшуюся, с ворохом обид, унижений, недоумений и горечи, теснившихся безответно в груди, обжигая ее, нашло злое вдохновение — то самое, которое не выносит боль, а только ее обнажает.
— А чего тут путать?! — перебила она. — Чего тут путать, Стас Николаевич? Не мы с тобой стали никому не нужными, а все кругом, все! Время настало такое провальное, все сквозь землю провалилось, чем жили… Ничего не стало. Встретишь знакомых — глаза прячут, не узнают. Надо было сначала вытравить всех прежних, потом начинать эти порядки без стыда и без совести. Мы оттого и прячем глаза, не узнаем друг друга — стыдно… стыд у нас от старых времен сохранился. Все отдали добровольно, пальцем не шевельнули… и себя сдали. Теперь стыдно. А мы и не знали, что будет стыдно. — Она помолчала и резко повернула, видя, что уводит разговор в сторону, где только сердце надрывать. — Дадут! — согласилась она. — Если просить, кланяться — дадут. Те дадут, кому нечего давать. Из последнего. Ну, насобираю я по-пластунски, может, сто тысяч. А мне надо сто раз по сто. Нет, не выговорится у меня языком — приходить и просить. А чем еще просить — не знаю.
Стас осторожно напомнил:
— У тебя ведь дочь есть.
— Дочь мне неродная, — глухо сказала Пашута. — И живет она с мальчонкой в последнюю проголодь. Девчонку мне отдала в учебу. Живет одна, без мужика. Это вся моя родня. Дальняя есть, но такая дальняя, что я ее плохо знаю. Нас у матери было четверо, в живых я одна. Все ненормально верно ведь, Стас Николаевич?
— Не паникуй. Куда твоя твердость девалась?
— Остатки при мне. И то много. С нею-то хуже. Она не для воровства, не для плутовства у меня, скорей в угол загонит.
Туман разошелся, света за окном стало больше, но оставался он серым, утомленным. Поддувал ветер. Яблонька томилась такой тоской, высветившись еще черней и корявей и поскребывая ветками по стеклу, что на нее было больно смотреть. Никак не могла затянувшаяся осень проломиться в зиму, никак не набирался сухой мороз, чтобы упал снег. Слишком заморилось все.
«Но земля, слава Богу, талая», — подумала Пашута. И опять стеснило ее надвигающимся днем: ничего она пока не добилась. А пора, пора…
— Ну, сделаю гроб, — спрашивал Стас, — и куда ты с ним? Дальше-то что? В какую контору, под какую печать? Это же все потребуется!
Пашута и здесь кивнула: потребовалось бы… Но не потребуется.
— Я тебе еще не все сказала. — И, говоря, смотрела на него пристально, не отводя глаз. Он упомянул о твердости — вот она, твердость. — Мне ничего не потребуется, Стас Николаевич. У нас не будет свидетельства о смерти, потому что не было прописки. И здесь, наверное, можно добиться… За деньги теперь всего можно добиться. — Сделала паузу, говорящую, что не ей этого добиваться. И повторила: — Мне нужен гроб, Стас Николаевич. Я сама вырою могилу.
— Где?
— У нас за пустырем лес. Место сухое. И от меня недалеко.
На Стаса это произвело впечатление. Он поднялся, завис над столом на длинных руках.
— Но это же не похороны, Пашута. Это же — зарыть!.. — он сдержался, не стал продолжать.
— Зарыть, — согласилась она.
— Взять и зарыть?! Ты с ума сошла, Пашута! Ведь она у тебя русского житья была человек. А ты — зарыть!
Он перешел на шепот. На шепот гремящий.
— Дай Бог, чтобы тебя не зарыли, Стас Николаевич. А мы — ладно. Я и на зарытье согласна. — И вернулась: не о ней сейчас речь. — Если будет гроб, все остальное я сделаю сама.
— Ка-ак? — добивался он. — Ты все продумала, но как? Как ты повезешь, как ты землю будешь бить? Там же, наверное, камень… В городе! Там же город, люди! Все это надо отставить, Пашута. Отставить! Это же человек, мать твоя, а не собака! — И еще одно со страхом вспомнил он: — Ты и попрощаться с нею людям не дашь.
— С ней тут некому прощаться. — Пашута смотрела в окно куда-то далеко-далеко, чувствуя, как в глаза наплескиваются слезы. Но нет, не заплакать, ни за что не заплакать. — Завезла я ее в такое чудесное место, что никто тут ее не знал. Она и на улицу почти не выходила. — Пашута встряхнулась. — Ладно, Стас Николаевич, нет — так нет. Скажу я тебе самое последнее. Денег у меня нет, ничего нет… Но если бы и были… Знаешь, кажется мне: все равно надо было бы так сделать.
— Ты не была сумасшедшей, — хмуро ответил он.
— Ох, какой я была, Стас Николаевич! Разве теперь сравнить! — И выбило разом все запоры, хлынули слезы, и, не успев подложить руки, стукнувшись о стол головой, затряслась в рыданьях, вырывавшихся рваным некрасивым клекотом.
Стас растерянно ходил рядом, гладил ее по голове, по пегого цвета спутавшимся волосам, отходил и снова молча гладил, ощупывающе, с какой-то беспомощной слепотой в руках и глазах. И сам теперь, своим опытом и умом шел той дорогой, которую выбрала Пашута, всматриваясь, где могут быть непроходимые места. Они были всюду от начала до конца.
Пашута заставила себя успокоиться и подняла голову. Он спросил:
— Когда ты хотела это сделать?
Она не стала ломаться, понимая, что заставила его согласиться.
— Завтра воскресенье. Люди спать будут.
— Да ведь по обычаю на третий день?..
Что было объяснять? Все тут поперек обычаев, за все отвечать придется. Пашута после слез закаменела еще больше. Стас перешел в комнату и кому-то звонил.
— Серега, — говорил он в телефон. — Подходи-ка ко мне. Очень ты мне нужен. Давай-давай, Серега, по пустякам я бы тебя не погнал. Подходи.
Пашута подковыливала к дому, когда заметила Таньку, стоявшую в отдалении, среди чахлых топольков, которыми дом пытался зарыться от дороги. В синенькой курточке с откинутым капюшоном, с непокрытыми льняными волосами, как-то особенно чисто и грустно светившимися в пасмури дня, она бродила тут, должно быть, давно. Шел двенадцатый час. Пашута приостановилась, поджидая несмело приближавшуюся девчонку.