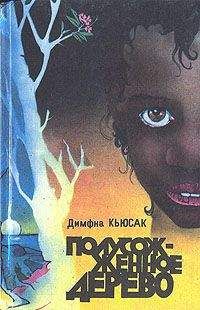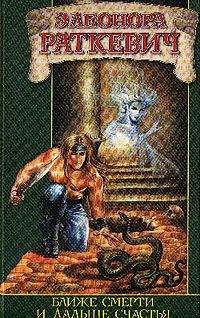Димфна Кьюсак - Скажи смерти «нет!»
Она вспыхнула и залилась краской, вспомнив, как тогда утром после своего приезда Барт потянул ее к себе и она сразу же откликнулась на его призыв. «Я слишком податлива, — думала она, прижимаясь к нему в порыве чувства. — Так нельзя, я должна заставить его ждать». Но желание поднималось в ней навстречу его желанию, и в необузданном восторге страсти и обладания растворялась вечность, которая, кажется, протянулась между их расставанием и встречей, между последним прощальным поцелуем и сегодняшним объятием. И не было ничего в мире, кроме Барта, и Барт для нее был целым миром.
И не просто инстинкт самосохранения, а нечто более верное подсказывало ей, что, если даже у Барта и были другие женщины (а рассудок с холодной ясностью говорил ей, что были), все равно и у Барта тоже еще не было ничего подобного. «Любовь навек». Слова были нераздельны, и сердце ее колотилось сильней, откликаясь на них. Она лежала, глядя на серебристую паутинку, колыхавшуюся в спертом воздухе квартирки.
Глава 3
Западный почтовый, перестукивая, несся в ночи. Грохот его колес глухо отзывался в пустых лугах, пламя топки на мгновение выхватывало из тьмы вереницу телеграфных столбов, пролетающих мимо, головной фонарь паровоза прорезал мрак.
Барт растянулся на полу в проходе, положив под голову ранец и укрывшись шинелью.
Поезд был переполнен, и удобней было путешествовать так, чем сидеть и в полудреме клевать носом в душном, переполненном вагоне. Ему так часто приходилось спать в проходе, направляясь в лагеря или возвращаясь из лагерей, что это мало беспокоило его. И все же в эту ночь он не мог уснуть. День выдался очень жаркий, и термометр, висевший на веранде отцовской фермы в Нелангалу, показывал в тени сорок один градус. А сколько было на солнце — одному богу известно. Даже после захода солнца в воздухе стояла жара и опаленная земля дышала зноем. Усыпанный звездами купол неба, словно металлический колпак, сдавил землю от горизонта до горизонта, как будто оберегая гнетущий покой безветренной жаркой ночи. Даже ветерок, вызванный движением летящего во тьме поезда, не освежал больше: он плыл по проходу мягким потоком тепла, тяжелым от запахов и пыли.
Барт беспокойно заерзал на своем месте. Ритмический стук колес отдавался в его мозгу.
Бывало, мерный перестук колес баюкал его в пути, пронося через пространство в сотни миль, через местность, знакомую и привычную, как отцовская ферма: вот волнистые склоны родных холмов пестреют лугами, то краснея свежевспаханной землей, то медово золотясь жнивьем в лучах солнца. А дальше по склонам чуть темнеют зеленые поросли кустов курайонга и без конца, без края простирается на запад бурая пустыня. Всю ночь колеса поют ему песни, знакомые еще с детства: в них одинокое эхо опустевших лугов, приглушенный отзвук горных тоннелей и перевалов, громыхающий перестук мостовых пролетов и виадуков и низкое басовитое урчание состава на горных подъемах. И в песню колес, словно журчащий аккомпанемент, вплетались знакомые имена западных городов.
Паровоз, сверкая, несся в ночи, и, когда кочегар подбрасывал угля в топку, дымовой хвост вдруг начинал светиться во тьме, словно трепетный хвост кометы; приглушенный свисток замирал в ночных далях, жалобный и одинокий. Это была песня Западного почтового. Барт садился на него под вечер, когда остатки зари, догорая, еще освещали небо, в нем он просыпался через полсуток, когда поезд, громыхая, спускался с гор к морю.
Поезд вдруг замедлил ход, и стук колес, сменивший свой ритм, пробудил Барта от тяжелого полусна. Он встал и налег грудью на опущенное окно. Теплый пыльный поток воздуха тяжело навалился ему на плечи. Узкая платформа, освещенная тусклым отблеском керосиновых ламп, выделялась оазисом света в ночной тьме. Этот мерцающий свет падал на лица ночного дежурного и охраны. С поезда сошла женщина с двумя детьми. Барт видел, как младший, спотыкаясь от усталости, тер заспанные глазенки. Потом, вдруг отделившись от тьмы, к ним подошел мужчина.
В тишине раздались приветствия, послышался женский смех, потом голоса смешались со стуком дверей, лязганьем буферов, дребезжащим скрежетом паровоза, набиравшего скорость.
Женский смех застрял в его памяти. Интересно, понравились бы Джэн эти края? Насколько ему было известно, она никогда не покидала побережье. Интересно, смогла бы она приспособиться к жизни в Нелангалу? Он нахмурился, закурил сигарету и привалился спиной к двери, глядя на пробегающие мимо поля, на которые огни поезда отбрасывали узор из света и теней.
Мысль о том, что Джэн могла бы встретиться с его стариками, никогда еще не приходила ему в голову. Впрочем, и сейчас он подумал об этом просто так, не всерьез. Отец и мать так блюдут всяческие условности, такие оба старомодные, что для них привести девушку в дом все равно, что объявить на всю округу о помолвке. Он усмехнулся при мысли об этом. Да, папашу такое сразу из себя выведет. Барт вспомнил, сколько раз, бывало, отец читал ему нотации о порядочности в отношениях с женщиной. «Это непорядочно». Отцовская речь, медленная, тягучая, суровая и в то же время добрая, так и звучала сейчас у Барта в ушах, будто отец стоял рядом с ним, здесь, в поезде.
«Непорядочно так поступать, сынок, совсем непорядочно вести себя так. Сперва вроде за девушкой ходишь как кавалер, а потом уехал по своим делам и забыл о ней совсем, словно ее и не существует».
Такие нотации он читал Барту во время прошлого отпуска. Тогда речь шла о Лэлли, хорошенькой рыжеволосой девчонке с соседней фермы. Бесполезно было доказывать отцу, что девчонки теперь тоже другие, совсем не те, что в его время, скажем, когда ма была девчонкой. Лэлли сама уже знает, что к чему. Ухаживаниям и паре поцелуев теперь не придают такого значения, как когда-то. Но на старика такие разговоры не действовали. Ну, да ладно! Лэлли сама разрешила проблему, выйдя замуж во время его отсутствия. Но он с какой-то грустью представил себе, что сказал бы отец, узнав о Джэн.
Барт с силой притушил сигарету. Господи боже, да если б отец только узнал, что он спал с Джэн! Да он бы небось его под страхом смерти заставил жениться, сам бы устроил свадьбу и стоял бы все время с ружьем у них за спиной, пока, наконец, его сын не сделал бы Джэн честной женщиной.
По его понятиям, женщина, если только она не была «дурного поведения» (а это означало массу вполне определенных вещей, о которых у них в доме не принято было говорить), — женщина всегда была жертвой. И ему достаточно было бы только взглянуть на Джэн, чтобы сразу уверовать всем своим честным стариковским сердцем, что его сын вел себя, как последний подонок.
Поезд мчал сквозь ночь. На востоке, на фоне неба все выше поднималась темная стена гор, влажный воздух равнины с подъемом становился суше, свежее, и Барт со все большей остротой ощущал, что его старая жизнь остается позади и начинается новая жизнь. Сотканная из бесчисленных воспоминаний, охватывала тоска по родным местам. Вспоминались одинокий печальный крик блеющих овец на рассвете, приглушенный стук их копыт по мягкой пыли, нескончаемо долгие, утомительные трудовые будни от первого рассветного луча в небе до заката, ловля рачков у плотины, когда красная глина хлюпает между пальцами; вспоминалось, как он скакал по лугам, как шел за плугом и ветер бросал в лицо пригоршни пыли, наполняя ноздри запахом свежевспаханной земли. Ему показалось, что, протяни сейчас руку, и дотронешься до взопревшего под сбруей крупа их старой пегой кобылы Дарки, проведешь рукой вдоль ее гривы и почувствуешь ее мягкие губы у себя в ладони.
Там, в Нелангалу, еще оставалась жизнь, которая имела какой-то смысл, цель, в ней был определенный ритм, была устойчивость. От рассвета и до темна, и снова от темна и до рассвета; жизнь была тяжкой, заполненной нелегким трудом, она была однообразной, и все же в ней был смысл. Он готов был биться об заклад, что Джэн не вынесла бы и неделю такой жизни. И теперь, когда поезд поднялся с равнины в горы и прохладный воздух, забираясь под рубашку, начал пощипывать тело, теперь, когда черная стена скал замаячила на фоне светлеющего неба, он понял, что и ему самому никогда не вернуться к этой жизни.
Вот ему двадцать пять, а что у него было в жизни, кроме этих лет, проведенных в армии?
Да, в армии и вправду была стоящая жизнь, до каких-то пределов, конечно. Трудно объяснить кому-нибудь, в чем ее прелесть. Обычно начинаешь вспоминать всякие шуточки насчет девочек и выпивки, но ведь это все только на поверхности. Главное было совсем не в этом. Главным было товарищество, родившееся за эти долгие месяцы в грязи, поту, среди адского пекла и ужасов джунглей. Товарищество, что тесно связало тебя с ребятами — твоими дружками и сделало тебя чужим целому свету, всем, кто не испытал того же, что вы, кто не познал мерзости войны, кто думает, что все кончилось с последним выстрелом.