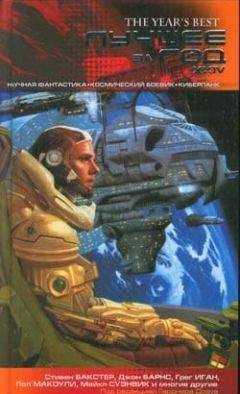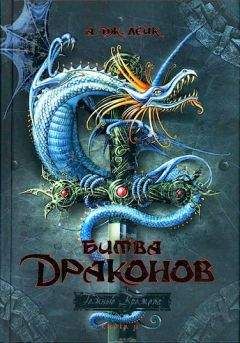День между пятницей и воскресеньем - Лейк Ирина
— Эти звуки, которые ты издаешь… Как будто я привел с собой в дом вурдалака! Честное слово, это невозможно, ты воешь на вдохе и булькаешь на выдохе. Если хочется плакать, надо плакать. При мне можно. Я твой муж. Так что плачь. Только не садись на койку, провалишься. — Он открыл дверь шкафа и стал доставать оттуда одежду.
Вместо того чтобы начать плакать, она перестала дышать. Потому что ей стало ужасно стыдно за вой и за бульканье. В комнате повисла зловещая тишина. Он выглянул из-за дверцы.
— Теперь ты решила задохнуться?
И вот тут она рассмеялась, а из глаз брызнули слезы. Она хохотала и плакала, и это было одновременно и отчаяние, и надежда, и боль от всех ее потерь и унижений, и страх, и облегчение, и чувство чего-то совсем нового, как будто где-то распахнули дверь, сорвали затянутую пружину и время помчалось дальше.
Он смотрел на нее и улыбался, а потом подошел и крепко обнял ее, обнял так умело и правильно, что она уткнулась ему в плечо и плакала, плакала, сколько хотела, насколько ей хватило слез и сколько было нужно. Он ничего не говорил, не утешал, не успокаивал, не пытался смешить ее глупостями, он просто дал ей выплакаться. А когда она успокоилась, он взял ее лицо в ладони, вытер ее и сказал:
— Лидия, я совсем тебя не знаю. У нас с тобой все очень странно, я честно скажу тебе, я человек, который тысячу раз все проверяет, и сомневается, и снова проверяет, чтобы не сделать ошибки. У меня такая профессия, я так привык — мои ошибки могут слишком дорого стоить. Так вот, сегодня я не сомневался ни одной минуты. Я знаю, что все сделал правильно, я знаю, что ты очень хороший человек, Лидия, серьезный, ранимый, сильный и талантливый, да, не крути головой, это именно так. Ты удивительная, Лидия, как бы ты ни пыталась это скрывать. Я знаю, что у тебя есть еще миллион секретов, помимо твоей золотой медали. Я не знаю всего, что с тобой успело случиться. Но случилось у тебя много. И это было тяжело и сложно. И я даже немного боюсь обо всем этом узнать. Может быть, ты сама никогда не захочешь мне об этом рассказывать — я обещаю тебе не задавать вопросов. Если захочешь — расскажешь, а если нет — я все равно буду все знать. Потому что хочу все о тебе знать. Я не жду от тебя подвоха и не сомневаюсь в тебе. Я хочу все о тебе знать, чтобы суметь всегда тебя защитить. Раз уж ты выбрала меня в свои спасители. Вот так. Сейчас нам нужно быстро затолкать в эти два чемодана все мои вещи и книги, а то уже очень поздно. Спать нам сегодня вряд ли придется, надо будет еще сбегать в больницу, я оставил там кое-какие бумаги. А утром забрать твой новый паспорт и потом ехать. Нам надо уехать отсюда. Поскорей, Лидия.
Она помогала ему собирать вещи, прибиралась в комнате, чтобы не оставить после себя погром и мусор, она старалась. Оказалось, им очень комфортно делать что-то вдвоем, они чувствовали друг друга на каком-то подсознательном уровне. Между ними не случилось сумасшедшего притяжения, они не были как два магнита, они были двумя идеально совпавшими шестеренками, зацепившимися друг за друга случайным образом, по стечению обстоятельств, но теперь они могли завести и заставить работать любой механизм.
Они все успели, все нехитрое имущество уместилось в пару чемоданов. За окнами уже забрезжил рассвет, и Юрий сказал, что сбегает в больницу и в паспортный стол. Лида хотела идти с ним, но он покачал головой:
— Ложись и немножко поспи, хорошо?
Она не стала возражать. Но задала ему один вопрос, тот самый, который мучил и пугал ее все это время:
— Мы полетим на самолете?
— Нет, — сказал он. — У нас билеты на поезд. У нас купе.
И, как только за ним закрылась хлипкая фанерная дверь, она улеглась на продавленную койку и тут же заснула. Так крепко и спокойно она не спала уже несколько лет. Он вернулся через пару часов и спросил, остались ли у нее какие-то дела, может, она хотела куда-то пойти или с кем-то попрощаться. Она хотела. Ей очень хотелось пойти на могилу к папе, рассказать ему обо всем и попросить прощения, но она знала, что там наверняка будет мать. Во всеоружии. Настолько во всеоружии, что вполне сможет сорвать ей и эту поездку, а такого Лидочка уже не могла ей позволить. Так что она покачала головой. Нет, ей никуда не нужно, она уже попрощалась. Она была готова ехать.
Москва оказалась еще больше и еще красивее, чем она себе ее представляла, и поначалу Лида совсем не понимала этот город. Но она не расстраивалась, потому что ее гораздо больше занимал собственный дом: то ли в ней всегда пряталась идеальная хозяйка, то ли она изо всех сил хотела доказать матери, что сможет ею стать, но из голой холодной квартиры, где они поселились, Лидочка очень быстро сумела сделать настоящий уютный дом. У нее всегда пахло пирогами и вкусной едой, она могла приготовить обед из семи блюд, когда в доме почти не было продуктов, у нее всегда хрустели белоснежные крахмальные скатерти, ее муж носил чистейшие идеально выглаженные рубашки, а зеркала и окна в доме сверкали в любое время года. Но она знала, что этого недостаточно, и тогда начала учиться. Она училась всю жизнь, записывалась и поступала на все возможные доступные курсы, у нее в тумбочке росла и росла стопка дипломов, как когда-то неотправленных писем. Но только те письма превратились в пепел, а она возрождалась из пепла с каждым днем, становилась все увереннее, все сильнее. Она успевала учиться на повара, кондитера, закройщика, бухгалтера и делопроизводителя, на массажистку, медсестру и стенографистку. Однажды Юрий обнаружил у нее на тумбочке учебник латыни и страшно удивился. На вопрос, зачем он ей, Лида честно сказала, что должна разбираться в том, чем занимается ее супруг, а в некоторых статьях, которые он читает, слишком много латинских слов. Ему осталось только пожать плечами. Когда она узнала, что через полгода институт ее мужа будет принимать французских коллег, которые тоже работали над новыми вакцинами от дифтерии, Лида начала усиленно готовиться, и на торжественном приеме, куда все явились с женами, она была не только одета лучше всех, ни в чем не уступая француженкам, но и довольно бойко поддерживала разговор с иностранцами, удивив всех русских коллег, включая собственного мужа, который в тот вечер бесконечно гордился ею. По дороге домой он спросил, где она купила это изящное платье, а она только пожала плечами и сказала, что сшила сама. А французским с ней занималась их соседка, древняя старушка Жанна Эмильевна, чьи родители-французы не покинули Россию в революцию.
Юрий Валерьевич никогда не проверял, сколько денег его супруга тратит на покупки, но на холодильнике у них всегда лежала общая тетрадь в зеленой клеенчатой обложке, куда Лида тщательно записывала все расходы и траты. Она никогда не покупала себе ничего лишнего, а ему хотелось ее баловать, и он открыл в сберкассе счет на ее имя и каждый месяц переводил на ее сберкнижку солидную сумму. Однако у его жены не появлялось ни модных туфель, ни дорогой косметики. Хотя она всегда прекрасно выглядела, но он знал, что прическу она делает сама, а глаза красит «Ленинградской» тушью. История с платьем для французского приема несколько расстроила Юрия Валерьевича. Нет, Лида выглядела прекрасно и платье сидело на ней восхитительно, но он к тому времени занимал уже солидную должность, и у нее было достаточно денег, чтобы купить себе что-то импортное, тем более что один их знакомый мог запросто достать для нее заветный пропуск в «двухсотую» секцию ГУМа или провести в «Березку». На следующей неделе Юрий Валерьевич тайком взял ее сберкнижку и зашел в сберкассу проверить состояние счета супруги. К его огромному удивлению, счет был пуст. На нем было тринадцать копеек.
Разговор состоялся тем же вечером. И как обычно, Юрий Валерьевич не задавал вопросов. Он обладал редким талантом не задавать вопросов, но при этом всегда все знал. Он пришел домой, отдал жене портфель, поцеловал ее в щеку, сунул ноги в теплые клетчатые тапочки (тапочки для него она ставила на батарею, чтобы он согрел замерзшие ноги) и молча прошел на кухню.