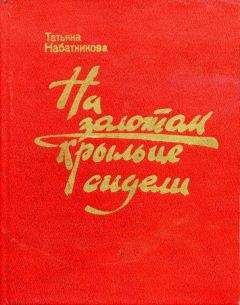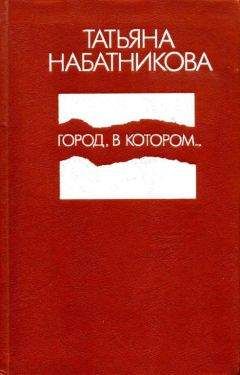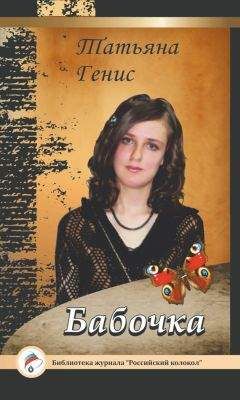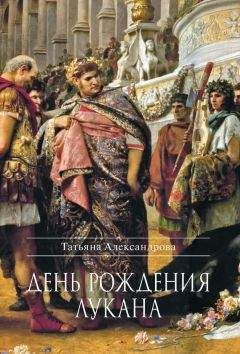День рождения кошки - Набатникова Татьяна Алексеевна
Выйдет, заверила Люба, если положить на это всю душу, если думать над чем-то одним изо дня в день и даже ночью, на автопилоте, на подсознании — непременно от таких усилий в мозгу завяжется зародыш и произойдет великое открытие.
Естественно, она должна была после школы ехать поступать в МИФИ или МФТИ, долго учиться — и какие уж тут дети, какая любовь?
А Саша?
Не совмещался Саша с такими ее планами.
Или ей от зова судьбы отрекаться, или от любви.
Любовь, причем, уже грозила перейти в неуправляемую стадию. Такие затраты сердечной энергии, она знала — физика! — невосполнимы, а ей не хотелось так расточительно расходовать их зря. Бесперспективно.
Она написала Саше длинное письмо — что любит его, но расстается с ним. Конечно, подлых слов «зря» и «бесперспективно» она постаралась избежать. Уже ведь мытая ходила, причесанная и умная.
Он ничего в ее письме не понял. И правильно сделал. Эту конторскую расчетливость нельзя понимать. Позорно быть таким понятливым. Или ты любишь — тогда люби, без глаз, без рассудка, без ума, положись на зрячесть священной стихии. Или уж не ври про любовь, коли у тебя рассудок, ум и расчет.
Больше они не виделись, дообъясниться, дооправдаться он ей не дал. Не простил.
Кстати, с чего это она взяла, что зря и бесперспективно? Ведь они не обсуждали будущее.
Но человек втайне знает свои силы.
Саша от всех отличался — и от нее тоже. Награди нас природа собачьим нюхом — как бы мы страдали от вони! Но мы защищены от болезненных вторжений мира нашей глухотой, слепотой и тупостью.
Мы спасительно мелковаты и плосковаты, сигналы жизни потухают в нас, не получая резонанса и продления. А Саша был отзывчив и все время мучился от эха — оно носилось в нем из края в край.
В нас нет огня, которым бы передавалась весть с вершины на вершину со стремительностью индейских сторожевых костров. Заветную весть, раскаты горнего смеха — вот чего мы, ущербные, лишены, вот во что он вслушивался, сбивая бичом макушки растений.
С тоскливой завистью глухого Люба часто видела, как он трепещет, отзываясь на музыку непостижимой жизни, как он не переносит фальши в поведении, звенит, как счетчик Гейгера. Ее чувства были слишком неповоротливы, грубы.
Зато в нем не было дерзкой энергии напора — внедряться и создавать. Она же ощущала в себе целую каменоломню строительного материала, залежи и глыбы томились в ней, добытчик готовился к долгим трудам, и Саша тут в помощники не годился. Она была тяжела, он — из тонкой материи, эльф.
Она наказана богом любви за позорную расчетливость тем, что любит его по сей день, избегает и боится, как бы не умереть от волнения.
Великого открытия она так и не сделала. Видно, не удалось сосредоточиться как следует на одной мысли, все время что-нибудь отвлекало…
Но у синхрофазотрона проклятого все же стоит и предназначение свое, видимо, исполнила верно, судя по здоровью — это индикатор точный.
У Саши со здоровьем хуже. Его преданная прекрасная жена то и дело возит ему передачи в кардиологическое отделение областной больницы.
Они женаты с сельхозинститута, куда он поступил через полгода после Любиного письма, на инженерный факультет. Любе донесла потом разведка из родного села: «Саша привез жену — вылитая ты».
Привез жену, стал работать в совхозе, со временем принял главное инженерство, потом и руководство, когда старый директор вышел на пенсию.
Он не хотел этой работы, но согласился, полагая, что не надо потакать своему нежному душевному устройству. Пора быть настоящим мужчиной и преодолевать слабости и тонкую инопланетянскую свою природу.
Так и преодолевает изо дня в день, из года в год. Никак не может преодолеть. Ему по-прежнему громадных усилий стоит подойти к трактористу, пожать руку, спросить, как дела, и бежать себе дальше. Он понимает, как трудно Господь сотворял душу этого тракториста, храм свой, как сложно этот храм устроен; он слышит, как эхо гуляет под сводами; он может приблизиться к нему не иначе как с трепетом, а старый директор всего этого не знал, он запросто подходил и здоровался; и сам тракторист о себе ничего такого не подозревает, никаких гулов и храмов, и отстранение директорское он понимает как заносчивость и презрение к его, тракториста, работе и жизни.
Хотя всё как раз наоборот.
Так и мучаются все — и крестьяне, и директор. Работает, конечно, до крайности, до упора, держит хозяйство.
Сохранился бы здоровей и целей, найди он себе поприще одиночки. Синхрофазотрон какой-нибудь. А он — директором! Ужасное несовпадение, безумный выбор. В гневе после письма, в мщении.
Для Любы рос, ее был мальчиком, ей предназначенным. Она это в свои чумазые шесть лет знала — но не точно.
Что мы знаем точно? Про нас прозектор все узнает, когда вскрытие произведет. Он и скажет, в каком месте самая тонкая жила не выдержала насилия над нашей природой.
Но как надо было, не знает и он. И никто. А если бы кто знал, так и жить было бы неинтересно.
Чудо
Это как условный знак, вроде тихого посвистывания из темноты: мол, не бойся, я здесь, я с тобой.
И происходит это не со всяким, надо еще заслужить, чтобы тебя не оставляли один на один с жизнью.
Со мной, например, очень долго не случалось никаких чудес, и вся моя жизнь складывалась по материальным, поверхностным законам. Я даже думала, что это у всех так и что про чудеса люди врут.
Однажды были мы с Егором Юдиным, известным православным писателем и художником, в Вене — на мероприятиях по детской литературе. Егор уверял, что с ним чудеса совершаются то и дело. А с тобой, говорил, ничего не происходит потому, что ты — ни богу свечка, ни черту кочерга. Я думала, он сочиняет.
Но очередное чудо случилось с ним у меня на глазах.
Мы уже покидали Вену. Последние австрийские монеты, неходовая в других местах валюта, были наскоро дотрачены. На общественный транспорт до аэропорта у нас был припасен билетик на две персоны, купленный в автомате. Но в последний момент мы обнаружили, что он детский, по половинному тарифу. Видимо, нажали не на ту кнопку у автомата, сгребли сдачу, не считая, и не заметили ошибку. Покупать новый было уже не на что. Австрийцы хоть и ближе к славянам по характеру, чем упорядоченные немцы, которые всё делают заблаговременно, но и у них поменять доллары можно только в банке и только в определенные часы. Мы с Егором влипли.
Надо иметь в виду, что это вам не Россия, где безбилетный проезд дело самое естественное, там это — форменное преступление, наравне с грабежом и разбоем.
Заготовили мы подходящую легенду для контролера — а разговор с контролером был абсолютно неизбежен, потому что последний отрезок пути нам предстояло ехать на пригородной электричке, где билеты проверяются неукоснительно. Егор по-немецки не говорил, и драме предстояло разыграться между контролером и мной.
Когда человек в униформе приблизился к нам, Егор воскликнул краткую молитву: «Господи, помоги!» — и отвернулся от позорища.
Контролер взял наш билет, долго в него вглядывался, потом уточнил:
— До аэропорта? — по-немецки, естественно.
Я кивнула, ни жива ни мертва.
— Вдвоем?
— Да.
Контролер продырявил наш билетик своей машинкой, вежливо вернул мне и проследовал дальше.
Мы с Егором ошеломленно посмотрели друг на друга.
Так я узнала силу молитвы.
Конечно же, имеет значение, кто просит, о чем и с каким сердцем.
Если, скажем, ты уже изрядно задолжал своему соседу, пропустил все сроки и снова пришел просить, то вряд ли дадут. Так же и тут. Сперва рассчитайся по старым долгам.
Однажды я очень долго собиралась в храм. «Собиралась» — в данном случае говорила себе: надо бы сходить в церковь. Дальше намерения дело не шло. Все работа да дела. Вот уже и момент себе определила: отстоять неделю покаянного канона в Великий пост. Уже и вслух объявила (как теперь говорят, «озвучила») свои планы в разговоре с подругой. А дал слово — держи.