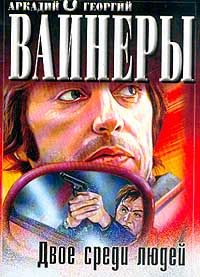Аркадий Вайнер - Петля и камень в зеленой траве
В Нюрнберге были предъявлены фашистам обвинения за намерение разрушить центры славянской культуры, стереть с лица земли памятники их истории, религии, архитектуры.
А кто ответит за это? И кому спрашивать? И кого?
Еще работая в газете, я написал как-то статью о том, что ученые направленными взрывами перегородили ущелье, предотвратив затопление селем Алма-Аты. Редактор Фалелеев, толстоголовый кабан в железных очках, прочитал ее, помотал своими сине-зелеными лохмами, усмехнулся:
— Это забавно. Но ерунда. Когда я комсомольцем еще был — взрывали мы храм Христа Спасителя. Вот это работенка была!
Он уже на пенсии. Конечно — персональной. Скоро помрет, наверное. С кого спрашивать? И как за это можно спросить?
Дьявольская работенка оказалась работничкам по плечу. Никакие трудности их не смутили — в бесовском азарте сокрушили храм, которому стоять бы тысячелетия. Я думаю, в них всегда жила подсознательная тревога о краткости и зыбкости их религии. Они не могли допустить идейной конкуренции и взрывали храмы, но взрывы эти окончательно расшатали их собственные некрепкие устои.
На месте разрушенного храма Христа Спасителя было решено возвести храм их собственному мессии — Дворец Советов, увенчанный стометровой статуей Ленина. Существовала бездна сумасшедших прожектов. Самой перспективной была идея сооружения в голове у их Спасителя ресторана с крутящимся полом. Наверное, это было предметным торжеством материализма над бесплотным идеализмом. Но вдруг бесплотный антинаучный идеализм заупрямился — площадку фундамента, державшего некогда громадный храм, стало заливать подпочвенными водами. Тысячи тонн бетона не могли перекрыть бьющую со всех сторон воду.
Расстреляли архитекторов, несколько комплектов строите лей. А вода все шла.
И научным материалистам пришлось отступить.
Но новоселы ДОПРа этого не увидели — их уже самих давно побрали, перебили, сгноили в лагерях. Они платили дьявольскую дань, ибо радость от разрушения любого храма никогда не проходит безнаказанно.
Безвинных давным-давно убили неведающие, что творят, и ставшие виноватыми. А их убили знавшие, что творят, и потому еще более виноватые. И этих убили новые, те, кто перестал считать убийство виной. Последующие твердо знали, что надо просто убивать. Послушники заповеди — «убий».
Что-то так незаметно и необратимо изменилось в нашей жизни, что никто и не удивился, и не возмутился, а просто все обрадовались, когда созрела идея построить на месте разрушенного храма христианского Спасителя и непостроенного храма Советов — большой плавательный бассейн.
И при нем баню Андрея Гайдукова.
В общем-то, это — разумно и справедливо. Прихожане маленькой молельни мира вещей, который они искренне переносят в мир процессов.
Я затянулся последний раз, выкинул окурок и пошел в парилку.
В сауне полыхал хлебный жар — горячий ржаной ветер с еле заметной примесью мяты и эвкалиптового масла даже шибал в лицо, обжигал кожу до ознобного вздрога. На верхней полке широко развалил свое крепкое мясо Варламов, чуть ниже душевно собеседовали Васька Точилин с неизгладимым выражением генеральства на лице и Серафим Валявин директор ресторана Дома журналистов. Под ними полулежал на полке, опершись на локоть, Як-як — наивным светом голубых глаз и позой изображая того развеселого простоватого дурака, который на всех групповых снимках в санаториях укладывается в ногах выстроившихся перед аппаратом курортников.
— Привет, — буркнул я, и парильщики вразброд замахали мне грабками.
— Ба, никак сам Алексей Захарыч соизволили к нам пожаловать! — лениво завел Варламов, замминистра, обжора, пьяница и плут. — Большая честь для нас! Такая редкость! Волки в лесу передохнут…
Я молча полез на полку, Антон, уже разомлевший, довольный, заметил:
— Не передохнут. Егеря не дадут. Должно быть экологическое равновесие…
— Как в сауне, — сказал Варламов и подбородком показал на Точилина и его компаньонов. — Полицейские и воры. Итальянское кино.
Замурлыкал довольно партизан Як-як, выпью закатился в хохоте Серафим. Точилин отмахнулся.
Я сказал Антону через их голову:
— Цинизм сейчас считается самым прогрессивным качеством. Трезвый реализм и широкое государственное видение…
Варламов шлепнул меня по спине тяжелой ручищей:
— Наши отцы еще говорили: торговая баня всех моет, да сама в грязи…
Я улегся на горячей махровой простыне, закрыл глаза и отключился от них. Пропадите вы хоть в преисподнюю. Мы на дне. В глубоком подвале разрушенного храма. Контрамоция. Обратное стремительное движение во времени. Уходим в катакомбы.
Горячий пар. Волна жара накрыла меня, поволокла бесчувственного по гладким доскам, как утекающая вода. Надо так и лежать, не открывать глаз. Не видно рож моих собанщиков, не видно отчетливых автографов на деревянной стенке — кого тут только нет! И модные поэты, и эстрадные дивы, и космонавты, сиюминутные светила-академики, лауреаты, и заслуженные, и народные, и главные, и старшие, и первые, и…
Интересно, Андрей разрешает расписываться на стене таким, как Як-як? Или они сами не стремятся к паблисити?
Если не разрешает — то несправедливо! Они — угловые венцы этого храма, воздвигнутого на дне прошлой разоренной цивилизации. Соль нынешней жизни, завтрашние ее хозяева.
Их дети более жизнеспособны, чем потомство сегодняшних командиров.
А снизу гудит, докладывает непрерывно Серафим:
— Привозим их в номер, обоих, конечно…
— Обеих, — перебил грамотей Точилин. — Если две девки — надо говорить обеих.
— Да ты слушай, — обиделся Серафим. — Какая тебе разница! Одна телка, такая мурмулеточка — просто слюни текут. У вас, говорит, записи Бетховена найдутся? Умереть можно! А у самой грудочки ма-аленькие, первый номер…
— А другая? — с досадой спросил генерал.
— Срамотушечка — два метра, специальный лифчик носит, вместе с трусами. Но морда — классная!..
И от приятного воспоминания зачмокал со вкусом.
Все время, свободное от ресторанных махинаций, Серафим посвятил бабам. Андрей Гайдуков сказал про него — «Серафим, шкура, трахаться любит больше, чем по земле ходить». Никогда не попадаясь на жульничествах, он регулярно горел из-за своих мурмулеточек и срамотушечек.
Андрей с хохотом рассказывал, как последний раз погорел Серафим в ресторане «Бега», где завел себе целый гарем из официанток. Когда он смертельно надоел им не только своей любовью, но и поборами с чаевых, одна из срамотушечек сперла у него дома партбилет и прямо на нем написала жалобу, которую охотно подписали остальные срамотушечки и мурмулеточки, а оскверненный партдокумент отправили наверх. Серафим со скандалом загремел, да, видно, большой смысл в поговорке — «баня смоет, а шайка сполоснет». Не дали друзья пропасть — устроили к журналистам.