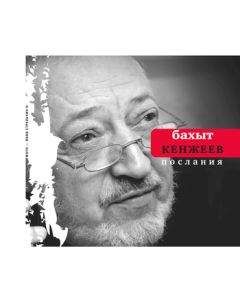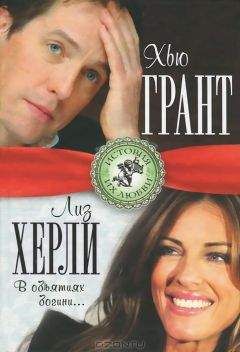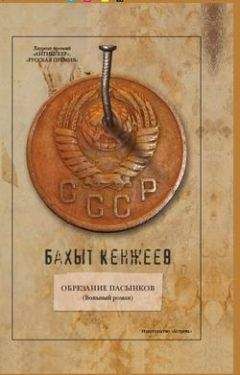Бахыт Кенжеев - Младший брат
«Еще грохочут поздние трамваи, и мост дрожит под тяжестью стальной. Я выпрямляюсь в рост, не узнавая ни города под белой пеленой, ни тополя, ни облака. Давно ли тянулся ввысь желтоколонный лес и горсточкой слезоточивой соли больные звезды сыпались с небес? И снова сердце к будущему глухо—пульсирует прошедшему в ответ, и до утра воркует смерть-старуха, и льет земля зеленоватый свет...»
— Что с ним теперь будет, Марк?
— Ничего хорошего. Надо молиться, чтобы его в психбольницу не посадили. Лагерь все-таки лучше.
— Неужели его оправдать не могут? Это же шутка, его роман!
— У коммунистов плохо с чувством юмора, дорогая. Его могло бы спасти слезное покаяние, статья вроде той, что ты читала, только от первого лица. Но не пойдет он на такое. Отец, может, будет его уговаривать... а может, и нет... Кстати, раз уж ты расхрабрилась взять письмо от Натальи, сунь в тот же конверт его собственное заявление для прессы. Он его мне прислал на всякий случай.
— Не повредит это ему?
— Может быть. Но откуда у меня право за него решать? Ночь прошла самую темно-серую точку, и небо над Васильевским островом начало чуть заметно розоветь. Первый скворец запел в листве, и другой ему отозвался.
— Ты бы лучше обо мне подумала,—сказал Марк деланно сердитым голосом.
— Выпей,—он достал из сумки бутылку, заткнутую хлебным мякишем,—выпей. Ну, что ты плачешь?
— Я... я не плачу. Так получается. Страшно.
В расходящийся пролет моста медленно поползла темная громада корабля. Из-за разведенных мостов в гостиницу уже было не попасть. А над городом снова густел туман, и когда Клэр с Марком, промерив шагами весь Невский проспект, добрели до Московского вокзала, опять посеял противный холодный дождь. В зале ожидания даже подоконники были забиты сонным народом, путешествующим кто по своей, а кто по казенной надобности. Но на втором этаже оказалось чуть просторнее и буфет был открыт.
— Вот тебе, дорогая, и подлинная экзотика. — Марк отхлебнул из картонного стаканчика свой едва теплый, припахивающий цикорием кофе.—Знаешь, сколько я в юности перевидал таких вокзалов.
— Руфь бы сказала, что и в Нью-Йорке спят на скамейках.
— Да. Слушай, хочу спросить тебя...
— Понравилось ли мне в России?
— Нет, попроще. Что тебя поразило больше всего по приезде в Москву? В самый первый день?
— Об этом книгу можно написать, милый. Наверное, бедность меня больше всего потрясла. Ты пойми меня правильно, в Южной Италии есть совсем нищие деревни, да и Ирландия—не Пятая авеню. Но я же читала много, фильмы смотрела, на выставку в Монреаль ездила. Космонавты, заводы, новостройки. И вдруг видишь, как люди плохо одеты. Какие одутловатые женщины, обшарпанные дома, убогие витрины. И солдаты— я их в первый день в Москве увидала больше, чем за всю свою жизнь.
— Совсем ничего не приглянулось?
— Не знаю. Я в такой ужас пришла, все это начало рассеиваться только в Закавказье. И чем дальше—тем больше. Там тоже не Америка, но все-таки жизнь какая-то есть. Хоть лозунги и те же. Ты их всегда так смешно переводишь?
— Стараюсь. Чем больше я их переведу, тем полнее у моих клиентов будет представление о советской власти. Ты знаешь, ведь это, помимо всего прочего, еще и крайне глупая власть.
За окнами вокзала играла заря, дождь утих, а что-то все удерживало их в душном зале ожидания, где не было ни каменных ангелов, ни бронзовых львов, ни оштукатуренных кариатид, ни всей несказанной прелести белых ночей,—одни усталые человеческие тела, разбросанные как попало на цементном полу и на фанерных скамейках, да плотные, черные, пахнущие потом очереди у билетных касс.
— Скоро сведут мосты. Ты чемодан успела сложить?
— Когда?
— Значит, пора. К вечеру уже оба будем дома.
Они вошли в вертящиеся двери гостиницы, куда тонкой струйкой вливался поток таких же любителей белых ночей, а через два часа под пение птиц и кошачьи шаги дежурной по этажу застрекотал походный будильник. Марк остановил его—и больше не стало времени смеяться, плакать, обмениваться клятвами и поцелуями.
— Что тебе подарить?
— Уволь.—Он замотал головой.—Вполне достаточно натасканного вчера ко мне в номер остальными. Уволь.
— Это смешно, милый, Я навезла зажигалок, шариковых ручек, значков, джинсы новые захватила—твой, кажется, размер. Мне говорили, их тут можно выгодно...
— Брось ты свои американские штучки. Я, может, по вашим понятиям и беден, но горд. Вези все обратно. Вот таблетка успокаивающего мне бы не повредила. — Он облизал пересохшие губы. — Слушай, у вас в штате есть смертная казнь?
— Отменили,—рассеянно сказала Клэр. В чемодан поочередно летели: лилово-серое платье, в котором она была тогда у моря, черный свитер с дыркой от сигареты на груди—память о Тбилиси, драконы, переложенные какими-то полотенцами и блузками. Мелькали вещи, сыпались в чемодан, и номер постепенно приобретал свой исконный нежилой вид. Только букет астр продолжал топорщиться на столе.
— Погоди, отчего ты спрашиваешь?!
— Солнце восходит.—Марк сощурился.—Я так люблю утреннюю зарю где-нибудь в средней России, на берегу реки, когда туманно, и пахнет мокрой листвой, и обидно, что не знаешь названий всех этих птах, которые распевают в ивах, я же человек городской. И казнят на рассвете. Будят засветло, выводят в холодный двор... Или уже нет? Двадцатый век, все упростилось. «Тьму в полдень» помнишь?
— Как не помнить!
Кое-как собранный чемодан уже переполнился, и Клэр лихорадочно соображала, как же запихать в него плащ и косметику.
— Над первыми страницами я очень веселился. Кестлер, душка, полагал, что в сталинских тюрьмах врагам народа дают чай с лимоном. И держат их в одиночных камерах.
— Все-таки возьми джинсы, считай, что это мой взнос на Андрея. Куда, по-твоему, лучше спрятать письмо? В чемодан?
— Ох, не знаю! Может быть, лучше в сумочку—я давно заметил, у тебя подкладка оторвана. Туда и запихай.
— Хорошо.
Она с усилием захлопнула чемодан и отдала Марку пластиковый мешок со «взносом».
— Присядем перед дорогой?
Последний их поцелуй наедине вышел долгий, отчаянный, но и он кончился, пора было звонить в ресторан насчет завтрака, спускаться на первый этаж со списком номеров для носильщиков, забирать вчерашний пакет с подношением, лежавший у профессора. По дороге Марк наткнулся в коридоре на мисс Уоррен с мордой, опустошенной чем-то весьма смахивающим на мировую скорбь. Она грузно опиралась на новую палку, а в травой руке сжимала конверт советской внутренней почты. Этот-то пятикопеечный конверт, разукрашенный алыми знаменами, танками и золотыми звездами, и заставил Марка наконец с поразительной ясностью понять, на кого была бы как на родную сестру похожа несчастная Хэлен. если б снять с нее вискозную кофту с огромными цветами и бабочками, синие кримпленовые штаны, рыжие туфли на американской пробковой подметке да очки в оправе, усыпанной стеклянными бриллиантами, а взамен облечь в москвошвеевский штапель, скороходовские босоножки на резиновом ходу и кольцо с карамельным искусственным рубином нацепить на палец—да еще заставить раза в полтора потолстеть.
Разумеется, на Марью Федотовну бывшую соседку.
Однако развивать эту занятную мысль, то есть представлять себе, чем бы занималась американка, если бы родилась в тридцатом году в Череповце, не было времени.
Семь утра. Казнят на рассвете, и рейсы в Америку обычно отправляются ранним утром. Как быстро кончилось это путешествие. Раздать паспорта, перемолвиться одним-двумя словами с каждым. Нельзя быть свиньей, все-таки люди отдыхать приехали.
Глава восьмая
— Письмо?—Таможенник вытащил из сумочки Клэр порядком помявшийся сероватый конверт.
— Частное письмо,—сказала она по-русски.—Случайно завалилось за подкладку. Давно собиралась зашить, все забываю.
— Письма, девушка, следует отправлять по почте. Напишите адрес на вашем конверте и бросьте его вон туда.—Он показал на синий ящик перед входом в таможенный зал. — По почте долго. И марок у меня нет.
— Видите ли, девушка...—Таможенник попался словоохотливый. Лицо этого грузного лысеющего парня казалось помертвевшему Марку знакомым, но рыться в памяти не было сил.—Перевозка писем через границу составляет нарушение государственной почтовой монополии. Да и что такое письмо? С точки зрения нас, таможенников? Всякое письмо есть рукопись. Или предмет, предназначенный для передачи третьим лицам. Надо было в декларацию его внести или, во всяком случае, показать, не дожидаясь, пока я сам его найду.
— Я забыла,—беспомощно сказала Клэр.
Таможенник вылез из-за стойки и на несколько секунд скрылся за дверью с надписью «Посторонним вход воспрещен».
— Значит, так,—бодро сказал он по возвращении,—вскроем, ознакомимся с содержанием, а там посмотрим.