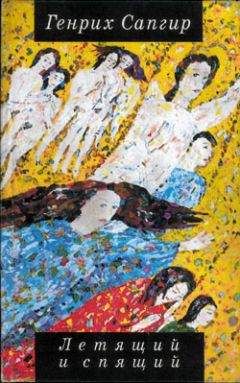Генрих Сапгир - Армагеддон
Березы, осинки, сосны, кустарник, сторож, гуляющие, дорожки, небо, собака, автобус. Желтеют, краснеют, темнеют, зеленый, ругается, смотрят, уводят, синеет, бежит, едет. Эти и эти, там и повсюду, тот и туда, оттуда и громко, нежно и быстро, вонючий.
2То, что автору рассказывал отец про войну, — обычный случай. На этом месте встал — убило, перешел на другое — спасен. Это просто варианты перемещений и траекторий. И стоит только подняться немного над реальностью, можно увидеть все целиком. Но человек в пути, ему некогда видеть все, как оно есть, даже взглянуть кругом не всегда себе позволяет. Он постоянно глядит в себя, а в себе он видит вселенную, и его не смущает, что таких вселенных множество. Одна вселенная спотыкается о другую, одна другую вытесняет, и приходится признать: одна уничтожает другую. И все эти вселенные — одна-единственная. В их физическом мире этого не может быть. Но у людей мистическое сознание, и они живут вовсе не в мире, а в своем сознании.
Я бы выстроил воспоминания отца так:
Я, не теперь, а тогда: война, Германия, красивые лужайки, особняки крестьян, неправдоподобно красиво, живут же люди, утренний туман, куда-то едем, похоже, город, подожди, я сейчас… Боже мой! Никогда не видел столько золота и бриллиантов! Взять, имею право, а что? победитель, ведь они у нас, я богат, надо еще дожить, доживу, бьет, сволочь, близко, не успеть, успел, все забрал, ссать хочу, подожди, надо убрать. Господи! Я богат, ну, давай писай, писька, миллионер «с головы до ног», почему Шекспир? Рядом ударило, ну, кончай свою струю, что же товарищи? Где же мешок? И машину разнесло, а могло бы меня, где это? Что ж это, ведь я же в мешок, и завязал крепко, сволочи немцы, будто приснилось, надо искать своих, проклятый туман!
3К третьему отрывку. Здесь даже сказать нечего. Человек постоянно находится в неведении насчет своего прошлого, какое оно было. Помнит далеко не все, а как ему надо, так и складывает свое прошлое. То любит, то ненавидит, в зависимости от. Любопытные узоры получаются. А государство? Как выгодно сегодняшним чиновникам, так они и выстраивают историю. Оппозиция кричит: погодите, все было не так; все было совсем наоборот! Оба относительно правы. Потому что было все. Все, от чего бежит изворотливый ум, который постоянно нуждается в допинге, в самооправдании, тогда у него появляется цель и силы дальше жить. Если бы я был человеком, я бы сказал, что разум — это самозванец Дмитрий, который внушает всем и себе, что он царь. Притом сам чувствует свое самозванство и каждую минуту боится, что его свергнут с трона. Но будет ли идущий за ним царем, а не еще одним самозванцем? Скажете: метафора? Нет, до метафоры я не дорос, просто аллегория.
Интервью я бы изобразил так:
Галя Аккерман, Генрих Сапгир, Галя Аккерман, Генрих Сапгир, Галя Аккерман.
Александров, Москва, Александров, Москва, Александров (в перспективе).
Утро, снежок, ахает, ухает, страшно, но здорово, мать тыркает, отец хромает, я смотрю: страшно интересно. Лошади, подводы идут через Москву, это же праздник, иллюминация, весело-весело, грабят, несут, мешки, коробки, бутылки, все такие занятые, а эти растерянные, могут убить, русские, австриец, солдаты, пленный, ребенок, я, кто я? Сам, сам, сам! Вечный, радостный! Никогда не убьют.
4Автор смотрит на падающий зеленый листок. Здесь его посещает мысль о довременной смерти. А дерево, видимо, род человеческий. Нет, это опять он сам, несущий груз своих грустных мыслей. Грустных — груз. Грустеподъемник, грустянин, грустевик. Возникают слова, я представлю, что это такое. Грустевик — грустный человек, весь обшитый грустью, как броней. Он еще и груздь — такой большой, такой лесной и неподъемный. Грустевик прячется где-то в развалинах, подстерегает ничего не подозревающего старика или влюбленную пару, чтобы выстрелить из грустья. И сразу из прошлого выскочат фантомы — любимые женщины, близкие люди, умершие уже, и начнут отщипывать по кусочку души. Неприятное зрелище для таких, как я. А вам, людям, это даже нравится, вся эта грустятина. Вы живете в том, чего нет, да и не было никогда, в том, что вы сами придумали на досуге. А вы говорите, метафора.
Конечно, некоторые из вас чувствуют иное, скрытое от них. И, поскольку это совершенно непохоже на весь их придуманный мир, пугаются до ужаса, до онеменения, до судорог души. Я бы так переписал письмо одного из таких, мудрого старого художника и поэта:
Некое, скрытое, страшное, тайное, чуждое, неизбежное, неотвратимое, невыразимое.
Сон, бред, бредовое, меня уничтожающее, боюсь, боюсь, себя боюсь, соседей боюсь, мать еще жива, матери боюсь, боюсь ту, кого люблю, боюсь ту, которую разлюбил, боюсь всех, кого не люблю, боюсь идти за картошкой, боюсь ехать в город, боюсь электрички — и не стыжусь этого, жизни боюсь, а не смерти, вот моя тайна и скрытое, тайное, чуждо-враждебное, страшное, неотвратимое, неизбежное, невыразимое, ночью сердце, слышу, стучит.
5А этот, про кого ревниво и коротко упоминает автор, — любопытный экземпляр человеческий, прирожденный лидер, но беда-писатель. Как лидер, он любит купаться в людях, возвышаться над ними, учить сам не знает чему, главное — поза и уверенность в том, что это — реальность, а не приснилось тебе в одночасье. И когда эти куклы падают или их сшибает, как кегли, время, они снова становятся обыкновенными людьми и сами недоумевают, что такое происходило с ними. Но, я вижу, слишком много терлись они среди человеческого такого разного, такого дерьма, их начинили всем этим — пряной начинкой. И главное — от них разит, а они радуются, будто это «Кристиан Диор». Они печатают шаги по-командирски, они произносят речи, лишь бы слушали, слишком часто им кажется, что на них взирают с восторгом. Остается их только пожалеть, сами-то они никого жалеть не умеют. А этот парижанин из Харькова вообще идеолог войны как здоровой мужской прогулки, где мужчины, шутя, борются на лужайке, походя любят подруг и радуются атмосфере, когда стреляют. Слишком много потного тела для меня.
Убить, убить, убить, убить, убить, что это? Разве это я? Кто это? Меня нет, нет убитых, нет страдающих, Бога нет, никого нет, кто меня подменил мною же? Кто?
6Автор описывает случай среди алтайских предгорий на празднике в честь его рождения, который происходил, как я понимаю, в зале бывшего Дворянского собрания или в реквизированном купеческом особняке. По стилю я вижу: автор крепко надеется на это. Если мама держала его, автора, на руках, то он мог видеть своими бессмысленными глазками лепных ангелочков на потолке и хмельные головы окружающих. Автор сетует, что его уронили, но это по рассказу очевидцев, было ли это? Может быть, старшие братья только хотели уронить, а выпороли их за другое. Почему автор не вспоминает широкий офицерский ремень отца? Что, его не били никогда? Даже мать стегала его ремнем. Отсюда страх.
А пиршественный стол. Я представляю все это так: усы, усы, борода, глаза, стеклянные, страшные за стеклом глаза, синие щеки, ус приближается, приближается, мне страшно, хочет уколоть, он колет меня, я кричу изо всех сил, меня трясут, я кричу, меня трясут сильнее, мне страшно, я кричу, закатываюсь в неслышном плаче, мне протягивают большое, теплое, родное, вкусное — сисю, еще всхлипывая, чмокаю — теплое, сладкое течет в меня, успокаивает, но я не забыл, нет, я не забыл эту щетку, колющую нежную кожу, эти ножи, этот стеклянный навыкате глаз.
И теперь, глядя на опавшие листья, я вижу: голые женские бедра, сморщенную старушечью грудь, коробящиеся на огне «испанские башмаки», порванные кривящиеся рты, вывернутые розовые влагалища, и влага — стеклянный навыкате глаз, на котором уселась улитка.
Вот что бы я написал на экране компьютера, будучи автором. А потом бы все это стер: вон из подсознания!
7Об усталости говорит автор. Листья вокруг него, видите ли, ползают. Листок газеты унесло. И автор тут же вообразил себя каким-то сумасшедшим, трясущимся, несущимся, простирающим руки к бумажным обрывкам, к летящим листьям по пустынной дачной улице. Такой силуэт из себя вырезал. Даже в печали люди любуются собой.
А печаль по поводу наступающей старости. Хоть и нечем мне сочувствовать, а жалко его, автора. Ведь я тоже отчасти почувствовал себя человеком, читая его обрывочную историю. Хорошо, что не мемуары, а то бы я совсем скис.
Воспоминания приятеля его — драматурга — я бы изобразил более реально. Не что говорили, а что думали.
ДРАМАТУРГ. Сидит рядом за стойкой — и бровью не ведет. Ничего еще, как ноги раздвигала тогда, как бурно полоскала ими в воздухе. Что-то, кажется, чувствую. Богиня была — белая и большая, когда в кровати.
БОГИНЯ (за стойкой бара). Чего он там врет? Ну, летала с ним в Дагестан, он ведь не знает, что и с его другом тоже и туда же! И еще — было, есть что вспомнить, теперь уж не то. Жалко, конечно, его, еле ходит. С палочкой. Палка у него стояла толстая. Господи, прости.