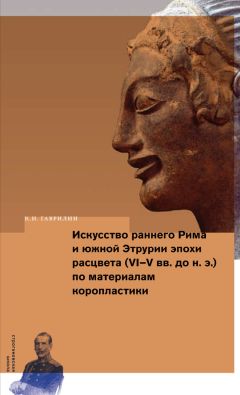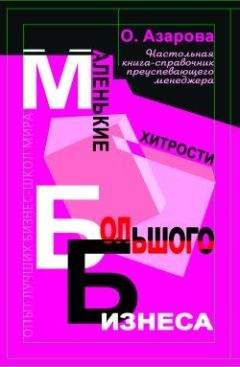Хуан Онетти - Короткая жизнь
Я срезал с листков почтовой бумаги штамп гостиницы, обернулся, чтобы убедиться в покое и ровном дыхании Эрнесто, и взялся за письмо к Штейну, пометив его городом Монтевидео и предстоящим через неделю числом; это был рассказ самому себе о поездке с Кекой в Монтевидео несколько месяцев назад — от первого взгляда на грязные портовые улицы до окончательного образа Ракели, который я выделил среди других ее образов, решив сохранить и уберечь на будущие годы от нее самой, от того, что она может сделать, от видоизмененных Ракелей, которых жизнь вынудит ее избирать и разыгрывать.
Утро уже наступило — сквозь жалюзи пробивался влажный напористый свет, слышались звуки уборки в коридорах и на лестнице, растущий энтузиазм звонков, — когда я, остановившись перед заключительной фразой, сунул листки в карман, пересек комнату, полную дыма, и опустился на кровать к Эрнесто, чтобы разбудить его, явить ему своим усталым нервным лицом лицо мертвой Кеки и перенести заново в воспоминания и страх. Эрнесто порывисто сел, открыв рот и выставив для защиты руки, и опять улегся; его губы, глаза, небритое лицо, прядь волос между бровей вновь обрели выражение озабоченности и безутешности, хоть и менее сильное, чем вчера, почти освоенное благодаря ночному кошмару.
— Который час? — спросил он у потолка.
— Не знаю, полседьмого или семь. Нам скоро уходить.
— Я спал. Сигарета есть?
Мы покурили, я открыл окно солнцу на крышах и выбросил свою сигарету; воздух был уже тепел и пах чем-то новым, мне еще незнакомым.
— Если мы хотим, чтобы все обошлось, надо кое-что предпринять, — сказал я, поворачиваясь, и пригляделся к ненависти, которую силился оживить Эрнесто; несколько поблекшая, она была на его лице, в позе — в раскинутых врозь ногах, руке под затылком, другой руке, которая замедленно ходила взад-вперед с сигаретой. Я подумал о необходимости и риске разговора, о нашей непродолжительной совместной судьбе, зависящей от моих слов. — Мы поедем поездом. Но не тем, где они скорее всего станут вас искать. Я уйду, а вы тем временем примите душ или закажите завтрак. Ни с кем не прощайтесь, телефоном не пользуйтесь. Забудьте обо всем, дела предоставьте мне, все уладится.
— Где моя одежда? — спросил он, не пошевелившись.
— Я решил сменить ее, но…
— Где моя одежда? — Он сел на кровати, швырнул сигарету на пол; я наступил на нее и погасил. — Говорите, куда вы дели ее. Здесь ее нет.
Я почувствовал, как вверх по ногам поползла усталость, и усомнился в своем долге строить фразу так, чтобы навязать будущее, в котором был заинтересован лишь частично. От бессонницы жгло глаза, движения губ, нужные для улыбки, давались с неимоверным трудом.
— Следует сменить ее, чтобы вас не узнали. — Я посмотрел на белое мускулистое тело, сжавшееся на краю кровати, на обращенную ко мне гримасу осторожности, зная, что не очень глубоко под бравадой в нем навсегда угнездился страх. — Одежда в чемодане в шкафу, я хочу купить другую.
— Выброшенные деньги. — Он передернул плечами, улыбнулся со сдержанной насмешкой, уставив на меня серьезные глаза и растирая кулаками грудь. — Слишком много хлопот, охота терять время.
— Потом отправимся на вокзал и сядем в поезд, — продолжал я. — Будем пересаживаться на другие поезда, ехать автомобилями, может быть, пароходами. Все организовано, не беспокойтесь. — Я подошел к шкафу, взял чемодан, столкнул остатки плана Санта-Марии в корзину для бумаг.
— Слушайте, — спокойным голосом произнес Эрнесто. — Ну-ка, дайте сюда мою одежду. Мы уйдем вместе, я не сбегу. — Он снова улегся и разглядывал свою ступню, торчащую над простыней. — Никто меня не видел, костюм не имеет значения.
— Вы в этом уверены? — спросил я от двери, отстаивая свое решение испробовать на нем рецепт новой жизни по Штейну: незнакомая гостиница, сон, слабительное, новая одежда. — Откуда вы знаете, видели вас или нет? К тому же многим известно, как вы были одеты, когда исчезли. — Я засмеялся, поставил чемодан на пол, потянулся. — Надо все обдумывать, иного выхода нет.
— Я обдумал, — сказал Эрнесто. — Лучше всего явиться с повинной. Она первая начала… — С задумчивой гримасой он поднял голову, чтобы было удобнее разглядывать ногу. Я не придал его словам значения: ему хотелось противоречить, утешиться или досадить мне. — А бумаги? Те, что были в карманах?
— Я переложу их в новый костюм. Холодный душ пойдет вам на пользу.
— Нет, постойте-ка, не уходите. Ведь кто ее убил? — Он опустил голову на подушку и снова взглянул на меня. — Велика важность явиться с повинной — как ни крути, конец-то один… Вчера я решил, что вы побоялись, как бы я не сбежал. Проснулся, а одежды нет. Но я плюнул и снова заснул. Думал, меня разбудит полиция. — Он начал смеяться, глядя на потолок; солнечная полоса росла в окне, медленно скользя к полу. — Почему ты не привел их? Раз я убил ее, раз мы тогда подрались, не понимаю, зачем ты впутываешься, хочешь мне помочь. Не понимаю. Я все равно сдамся. Думаешь, слабо? — Он улыбнулся без неприязни, почти без насмешки; с минуту поглядев на меня, он отвел глаза. — Делай, что хочешь, что взбредет в голову. Купи мне два костюма и фрак, купи мне плащ.
— Я сюда не вернусь, — сказал я и пнул чемодан ногой. — Жду тебя в кондитерской у Центрального вокзала, на Ретиро. Когда спущусь, заплачу по счету. В кондитерской на Ретиро через час, в восемь.
— Вот, значит, как? — Он напрягся, сел на кровати и замотал опущенной головой. — Меня это не устраивает. Я не могу идти на Ретиро голым.
— Одежда в чемодане. Я ее оставлю здесь.
— Измятая, конечно. А как насчет того, что меня видели, когда я входил? Как насчет того, что сто человек знают, как я одет?
Идя к своей неразобранной кровати, чтобы положить на нее чемодан, я слышал позади его смех, рикошетом отскакивавший от груди; обернувшись, я увидел, как блестящие маленькие глаза оскорбительно впиваются в мое лицо.
— Ты что? — пробормотал я и коснулся тыльной стороной ладони жесткого револьвера на ягодице. Моя ненависть сосредоточилась на круглых мускулистых плечах, на его смехе и его взгляде, на свисавшем на лоб клоке волос.
— А столько разговоров про то, видели меня или нет, помнят мой костюм или нет! Приказывает, суется не в свое дело!
— Ты что, сукин сын? — Я передвинул ногу, чтобы он не заметил моей руки на рукоятке револьвера. — Почему не встаешь? Над чем смеешься?
Он моргнул, оскалился, перестал улыбаться; из его открытого рта вдруг, как язык, высунулась усталость.
— Кто тут чокнутый?.. — заворчал он.
Я выждал, чтобы у меня прошла ненависть, почувствовал на левой щеке утреннее солнце, вновь ощутил потребность с помощью слов навязать нам нелепую общую судьбу.
— Слушай, — начал я, — нам нельзя терять хладнокровие. Мы сядем в поезд и уедем отсюда. Я знаю, как это делается, где спрятаться, куда поехать, чтобы нас не сцапали… Ее убил ты. Сейчас не стану объяснять, почему тебе помогаю, зачем в это впутываюсь. Жду тебя на Ретиро; придешь ты или не придешь — дело твое, можешь являться с повинной, можешь пробовать убежать один. В восемь в кондитерской. Сядем в какой-нибудь поезд. Границу еще успеем перейти, сейчас главное — убраться из Буэнос-Айреса. Мы проберемся в Боливию, не знаю только когда; придется поездить туда и сюда, на восток, на запад, попетлять, запутать следы. Все образуется, если никто не будет сходить с ума, если у тебя пройдет страх и ты научишься делать то, что я тебе скажу.
По пути к Ретиро я зашел в кафе, чтобы закончить письмо к Штейну, написать фразу, о которой я думал несколько месяцев: «Кажется, она что-то подозревала, потому что остановилась у угла стойки, повернулась и посмотрела на меня испуганными глазами, с гримасой, которая открывала ее зубы, но не была улыбкой; и, зовя официанта, чтобы расплатиться, выскакивая на улицу, мчась под дождем к первому попавшемуся поезду, чтобы сбежать все равно куда, я видел ее перед собой, худую, остановившуюся у оловянного изгиба стойки, с нерешительно искривленной шеей, глядящую на меня, подняв губу над твердо сжатыми зубами».
На Ретиро я вложил письмо в конверт с адресом Штейна и написал несколько строк брату, прося отправить письмо, не читая. Изучив расписание поездов, я решил, что надо сделать две пересадки и ночью прибыть в Росарио. До восьми оставалось двадцать минут, когда я вошел в кондитерскую и, тщетно ища вкус Кеки в рюмке джина, смотрел на белокурых мужеподобных девушек в студенческой форме, которые приходили завтракать с ракетками и хоккейными клюшками.
XIV
Письмо к Штейну
«Вот обещанный рассказ о путешествии, легенда о человеке, который вернулся за своим прошлым, написанная им самим в надежде уберечь ее от забвения. Меня вдохновляет мысль, что ты в любой момент можешь бросить чтение, но никто не может помешать мне писать. Я перечитываю это и нахожу совершенным: вне всякого сомнения, ты не поверишь, что я пишу тебе всерьез.