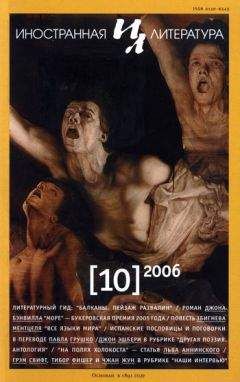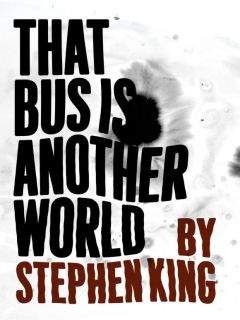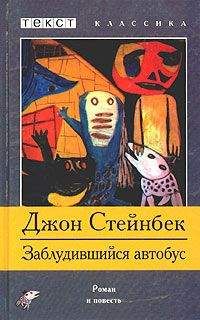Джон Бэнвилл - Неприкасаемый
Крышей ему служила букинистическая лавка в переулке поблизости от Лонг-Эйкр. Он ничего не смыслил в книгах и редко появлялся в лавке, что вряд ли имело значение, потому что в нее мало кто заглядывал. Олег ненавидел Лондон за его, как он говорил, жесткие классовые различия и лицемерие правящей элиты; я подозреваю, что подлинная причина состояла в том, что его страшил этот город, его богатство и уверенность в себе, его трезво мыслящие мужчины и непринужденно обходительные, внушающие робость женщины. Мы с Боем познакомили его с Ист-Эндом, где в атмосфере нищеты и грубости он держался более непринужденно. Для своих встреч мы выбрали рабочее кафе на Майл-Энд-роуд с запотевшими окнами, заплеванным полом и большим, покрытым бурыми пятнами титаном, в железном брюхе которого весь день урчало.
Наша первая встреча состоялась на рынке Ковент-Гарден. Я рассказал ему о своем занятном разговоре с Куэреллом в клубе «Грифон».
— Место под названием Блетчли-Парк, — сообщил я. — Перехватывают немецкие радиосообщения.
Олег воспринял мою информацию с долей недоверия.
— И этот человек предложил вам работу?
— Ну, не то чтобы работу.
Я с самого начала почувствовал, что не произвел на Олега большого впечатления. Думаю, что все «товарищи» находили меня не совсем… как бы сказать? — не совсем надежным. Сдается, от меня исходит слабый душок святости, унаследованной от длинного ряда предков-пастырей, который Олег и такие как он ошибочно принимали за фанатизм, и это могло их беспокоить, ибо они были практичными людьми и придирчивы к идеологии. Больше по душе им были ребячья жажда действия Боя и даже патрицианская надменность Лео Розенштейна, хотя, конечно, будучи настоящими русскими, все они были ярыми антисемитами. Мы кружили по залитому солнцем рынку, вдыхая исходившие от овощных прилавков тошнотворно сладкие запахи, когда Олег всерьез принялся оправдывать заключенный Сталиным с нацистами пакт. Заложив за спину руки и благоразумно наклонившись к нему, я вышагивал рядом и вежливо выслушивал его вымученные разъяснения, не переставая следить за забавными выходками снующих под ногами воробьев. Когда он закончил, я было начал:
— Послушайте, мистер Кропоткин…
— Гектор, будьте добры; моя кличка Гектор.
— Ну хорошо…
— А настоящая фамилия Кропотский.
— Ладно. Мистер… Гектор, я хочу кое-что пояснить. К сожалению, меня ни капли не интересуют ни ваша страна, ни ваши вожди. Прошу прощения за откровенность, но это так. Я, конечно, верю в революцию, но хотелось бы, чтобы она произошла где-нибудь в другом месте. Простите.
Олег, улыбаясь про себя, лишь кивал своей большой круглой, как шар на опоре ворот, головой.
— Где, по-вашему, должна бы произойти революция? — спросил он. — В Америке?
Я рассмеялся.
— Опережая Брехта, — сказал я, — думаю, что и Америка, и Россия — обе они блудницы, только моя блудница беременна.
Он остановился и, приложив пальцы к нижней губе, зафыркал. Я не сразу догадался, что он смеется.
— Джон, ты прав. Россия — старая шлюха.
Под тележкой с капустой два воробья затеяли драку, вцепившись друг в друга и напоминая оторванную вывалянную в перьях клешню. Олег отвернулся купить пакет яблок, доставая пенсовые монеты из маленького кожаного кошелька и все еще тихо фыркая и покачивая головой в сдвинутой на затылок шляпе. Я представил его школьником, толстым, смешным, пугливым, предметом ребячьих озорных шуток. Мы пошли дальше. Я краешком глаза смотрел, как он ест яблоко, захватывая розовыми губами и откусывая желтыми зубами белую мякоть; вспомнился Каррикдрем и ослик Энди Вильсона, тянущийся вывернутыми губами к моей физиономии с намерением укусить.
— Шлюха, верно, — весело повторил он. — Если бы они услышали… — он приложил палец к виску. — Бах! — И снова рассмеялся.
* * *Сегодня ночью члены ИРА снова взорвали бомбу на Оксфорд-стрит. Убитых нет, но впечатляющие разрушения и паника. До чего они решительны. Такой боевой дух, такая национальная ненависть. Нам бы надо было действовать так. Чтобы ни жалости, ни сомнений. Поставили бы на место весь мир.
О кончине отца я узнал во время одного из первых массированных дневных налетов немецкой авиации на Лондон. Уверен, что именно по этой причине я потом совсем не боялся бомбежек, как следовало бы ожидать. Так или иначе, потрясение притупило во мне чувство страха. Мне приятно думать, что это было последнее благодеяние отца в отношении меня. Я только что вернулся на Глостер-Террас после лекции в институте, когда принесли телеграмму. Я был в военной форме — будучи неисправимым франтом, я всегда надевал ее, когда ехал читать лекцию, — и доставивший телеграмму посыльный с завистью глазел на мои капитанские звездочки. Это был не мальчишка, а изнуренный старикан с кашлем курильщика и гитлеровской челкой. К тому же он был подслеповат, так что когда, прочтя суровую новость: «Умер отец тчк Хермайони», я поднял глаза, мне подумалось, что он явно заговорщически мне подмигивает. Смерть выбирает самых неподходящих гонцов. Были слышны взрывы бомб — глухой стук, будто по каменным ступеням скатываются какие-то огромные деревянные предметы, под ногами ходил пол. Посыльный, ухмыляясь, прислушался.
— Старина Адольф наносит нам дневной визит, — весело заключил он. Я дал ему шиллинг. Он кивнул на телеграмму: — Надеюсь, неплохие новости, сэр?
— Нет, — услышал я себя. — Умер мой отец.
Я вернулся в квартиру. С печально торжественным стуком захлопнулась дверь; как услужливо в некоторых случаях, вроде этого, самые обычные действия обретают полезный оттенок бесповоротности. Я медленно опустился на стул с прямой спинкой, руки на коленях, ступни бок о бок на ковре; как зовут египетского бога, того, что с собачьей головой? Меня окружила убаюкивающая безмолвная неподвижность, если не считать падающий в окно солнечный свет — кишащий пылинками бледно-золотой столб. Глухой похоронной канонадой вдали продолжалась бомбежка. Отец. Я смиренно принял навалившееся на меня бремя вины и глубокого горя. Какое знакомое ощущение! Словно надел на себя старое пальто. Может, каким-то образом в памяти держалась смерть матери, за тридцать лет до того?
Но к своему удивлению, я обнаружил, что думаю о Вивьен, как будто потерял не отца, а ее. Она с малышом была в Оксфорде. Попробовал позвонить, но линия не действовала. Какое-то время я сидел, слушая бомбежку. Попытался представить, как гибнут люди — сейчас, в данный момент, поблизости, — и не смог. Вспомнилась фраза из моей утренней лекции: «В изображении страдания перед Пуссеном встает проблема: как стилизовать его в соответствии с правилами классического искусства и в то же время донести непосредственно до чувств зрителя».
Той же ночью я отправился почтовым пароходом в Дублин. В море не по сезону штормило. Всю поездку я просидел в баре в компании с английскими коммивояжерами и дорвавшимися до портера ирландскими чернорабочими. Страшно напился, затеял слезливый разговор с барменом. Он был из Типперэри, недавно похоронил мать. Положив голову на руки, я отрешенно плакал пьяными слезами. Не помогло, стало еще хуже. Мы прибыли в Дан-Лэаре в три часа утра. Я бессильно повалился на стоявшую под деревом на набережной скамью. Ветер стих, и я сидел в ночной прохладе позднего лета, тоскливо слушая одинокое щебетание прятавшейся в ветвях надо мной птицы. Задремал. Скоро за спиной занялся рассвет. Я проснулся, мучительно соображая, где нахожусь и что надо делать. Нашел такси с полусонным водителем и поехал в город, где еще час, страдая от похмелья, сидел в ожидании первого поезда до Белфаста на пустом, отдающем гулким эхом вокзале. На платформе под ногами чванливо разгуливали голуби, высоко над головой в грязную стеклянную крышу били яркие холодные солнечные лучи. Вот и все, что засело в памяти.
* * *Я добрался до Каррикдрема только к полудню, еле живой после поездки и ночной пьянки. На станции встречал Энди на пони с двуколкой. Отводя глаза, сдержанно поздоровался.
— Не думал, что переживу его, — сказал он, — серьезно, не думал.
Мы поехали по западной дороге. Можжевельник; запах соломы и мешковины от пони; синее с сероватым отливом море.
— Как миссис Маскелл? — спросил я. Энди только пожал плечами. — А Фредди? Он понимает, что произошло?
— Ох, конечно, понимает; как не понять.
Он охотно заговорил о войне. Все говорят, отметил он, что будут бомбить Белфаст и доки; рассуждал об этом с веселым предвкушением, будто об обещанном на целую ночь фейерверке.
— Вчера был налет на Лондон, — сказал я. — Среди дня.
— Ага, слыхали по радио, — с завистью вздохнул Энди. — Ужасно.
Дом всегда пугал меня своей обычностью: все на месте, все идет как всегда, правда, без меня. Когда я спускался на гравий у парадных ступеней, Энди, чего раньше никогда не делал, подал мне руку, помогая сойти. Его ладонь, казалось, была из теплого податливого камня. До меня дошло, что в его глазах я теперь был хозяином имения.