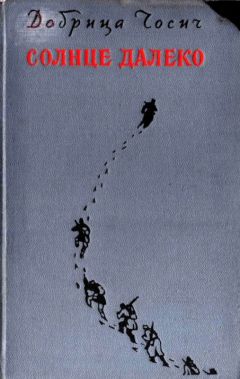Юрий Герт - Избранное
После того, как Петров, поглядывая на часы, несколько раз откладывал начало ("Может, подождем, кто-нибудь еще подойдет?.."), обсуждение, наконец, открылось.
Первым поднимается сидящий впереди нас Респектабельный — из разросшейся во времена Кунаева когорты уверенных в себе, властных, агрессивно прущих вперед и только вперед людей, хозяев страны и жизни.
РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ: Хотелось бы узнать: поскольку чувствуется, что роман незаконченный, намерена ли редакция публиковать его дальше? Читатели проявили к этому произведению большой интерес, и я задаю свой вопрос от их лица... Моя фамилия — (произносит неразборчиво), я доцент, преподаватель университета.
ПЕТРОВ сообщает: да, зная пожелания многочисленных читателей, журнал намерен в будущем году печатать продолжение.
ПЕРВЫЙ ВЕТЕРАН: Когда роман раскритиковали в газете, нам, читателям, захотелось, чтобы все эти товарищи, авторы рецензий, отчитались перед нами по этому поводу! Нам, например, понравилось последнее выступление товарища Толмачева по этому вопросу!..
ГОЛОСА: Они здесь! Здесь, в зале!..
Так, — думаю я, — для затравки разыгрывается "национальная карта": ветераны-аксакалы, грудь в орденах... Тут уж не Успенского критикуешь - тут покушаешься на святыни!.. Ай да Ростислав!..
ГОЛОСА: А как быть с оценкой Сталина?..
ВТОРОЙ ВЕТЕРАН: Мое мнение — Сталин не нуждается в оценках... И я против таких слов: "репрессии", "репрессированные"... Сталин показал себя, когда был Главнокомандующим: кто привел нашу страну к победе — Хрущев, Берия?.. Нет, Сталин! Говорят, Сталин виноват л убийстве Кирова. Но доводы эти впервые привел Троцкий. Это его версию использовал Хрущев на XX съезде. Еще предстоит выяснить, кто на самом депе убил...
ГОЛОС: Николаев!..
ВТОРОЙ ВЕТЕРАН: ...по чьему приказу: Сталина, Троцкого или Хрущева?.. Вы, кто в этом зале, не можете давать оценку Сталину. Его имя известно всему миру... Такие рассуждения, как у критиков романа, меня оскорбляют. Сейчас в Москве рассматривается в суде жалоба одного товарища... Шеховцов его фамилия... А я собираюсь подать в суд на киргизского писателя Айтматова за оскорбление товарища Сталина!
(оживление в зале).
ГОЛОС: На Горбачева подайте!
(аплодисменты).
На такой эффект авторы сценария не рассчитывали. Даже должность первого выступавшего — доцент, даже орденские колодки ветеранов — тоже, кажется, университетских преподавателей с кафедры марксизма - не выручили, напротив, увеличили пародийность ситуации... Я вышел к трибуне.
Вот они, мои прежние товарищи, больше — почти друзья по журнальной работе — внизу, кучкой: Антонов... Рожицын... И, понятно, - Карпенко, Киктенко, Гусляров... Мы уже схлестнулись по поводу очерка Цветаевой — и теперь так закономерно, неотвратимо антисемитизм сомкнулся с апологией сталинщины...
— Здесь были высказаны пожелания, чтобы выступили те, кто не согласен с публикацией "Тайного советника", — сказал я. Но Морис Симашко лежит в больнице, Берденников в Караганде, у Александра Лазаревича Жовтиса — лекции, он в институте, и поскольку они лишены возможности выступить, прошу прибавить мне ровно пять минут к положенным десяти по регламенту...
Сидевшие напротив трибуны перетянулись и заволновались, загудели: "Нет! Не давать!.." Ростислав Петров — у него даже ноздри дрогнули, затрепетали от плбтоядного возбуждения - напористо обратился к залу:
— Как, дадим?.. Или будем считать, что все обязаны придерживаться принятого регламента?..
(Смутный гул. Я вижу, как подскакивает, словно на раскаленных углях, Карпенко, мотает сивой, щетинистой бороденкой: "Не давать!.." И откуда-то сбоку: “Дать! Пускай говорит!..").
ПЕТРОВ (со скромным торжеством): Требуют соблюдения регламента!..
Что поделаешь?.. Я начинаю.
22— В том же номере "Казахстанской правды", где напечатано письмо Геннадия Толмачева в редакцию, на обороте страницы рассказано тоже о Толмачеве, но — другом. Этот другой Толмачев был капитаном милиции, и его убили. Убили его же коллеги, милиционеры. Они убили его не одного: они убили еще и рабочего Поляковского — увезли за город, били ногами, гирей в 24 килограмма, потом отрезали голову, закопали, тело бросили в Ишим. Их было трое - офицеров милиции. Случай этот произошел в Целинограде.
Мог ли он послужить сюжетной основой для художественного произведения? Думаю — да, мог. Ведь написан великий русский роман о том, как один студент зарубил топором старуху, а затем и ее сестру. И другой великий русский роман -о том, как отравили пьяного купца в меблированных комнатах. Так что уголовное преступление — традиционный объект изображения в русской литературе. Весь вопрос — для чего?.. И Достоевский, и Толстой писали, грубо говоря, ради того, чтобы душа читателя содрогнулась и очистилась.
История в Целинограде могла бы заинтересовать писателя. Но при одном условии: если бы писатель задался целью рассказать историю страшного падения этих людей. Историю их расчеловечивания.
Но что такое - целиноградские преступники? Это мизер. Они убили всего двоих. А если бы сто? Тысячу? Миллион?.. Десять миллионов?.. Тогда их ранг вырос бы многократно. Они уподобились бы Чингисхану или Гитлеру... Каждый из этих величайших злодеев мировой истории имеет свой облик, свои особенности. Но художник, обращаясь к этим феноменальным характерам, видит перед собой все ту же задачу: постичь, как может человек бестрепетно, безжалостно, мало того — ставя это себе в заслугу и доблесть — уничтожить миллионы — и не испытывать ни малейшего угрызения совести?..
Такого рода интерес писателя к подобным людям, подобным выдающимся злодеям понятен. Не понятно другое: каков был замысел Успенского? Он хотел постичь трагедию Сталина? Ужаснуться глубине его падения? Или оправдать его и возвеличить?..
"Я так люблю Татьяну милую мою", — писал Пушкин, ничуть не тая, как дорога ему героиня. Успенский тоже не скрывает своего отношения к своему герою-рассказчику. Вначале он, представляя читателю Лукашова, говорит, что Лукашов — - большой друг высоко ценимого автором генерала Белова, затем говорит о Лукашове: "Я сразу почувствовал, что этот человек благороден по своей сути, он не способен искать личную выгоду". Этого мало: сам Жуков, сообщает на тех же первых страницах Успенский, "первым уважительно поздоровался при встрече с Николаем Алексеевичем" и объявил автору, т.е. Успенскому: "Неправды от него не услышишь". Короче, Лукашов представлен автором так, что в газетах читателя он заслуживает абсолютного доверия. Это важно, т.к. дальше именно Лукашов ведет повествование, его глазами — и ничьими больше — мы наблюдаем происходящее в романе, главное же — Сталина.
Вначале несколько озадачивает этот выбор. Отчего Сталин подается нам именно через восприятие Лукашова - дворянина, белого офицера? Отчего именно он оказывается ближе кого-либо из рабочих, крестьян? Отчего именно он — переметнувшийся к красным белый офицер?.. Пока не станем пытаться ответить на этот вопрос, лучше проследим, как воспринимает Сталина Лукашов:
"Да, этот человек, с которым так случайно свела меня судьба, был достоин самого глубокого уважения. И это чув ство — чувство глубокого уважений — возникло и окрепло во мне".
И далее: "Мне нравились простота Иосифа Виссарионовича, его естественный демократизм". Да. Сталин — естественный отец русской демократии... "Сталин говорил... обычным своим голосом, и это очень нравилось мне. Проигрывать без истерики, с достоинством — это одна из отличительных черт порядочного человека". Итак, Сталин достоин уважения, он демократ, порядочный человек... Далее объясняется, что Сталин — избранник фортуны, "на котором лежит отпечаток истории". Тут же слышится стиль державинской оды... "Сталин был честным и добросовестным учеником Ленина, он видел смысл своей жизни в осуществлении идей марксизма-ленинизма. Курс намечен был верный, а ошибаться человек может на самом правильном пути, особенно если первым прокладывает дорогу в будущее". Здесь и в других случаях Лукашов рассуждает именно так — в стиле инструктора райкома застойного времени, когда хлебом не корми — только дай потолковать о "первопроходцах’' и "верном курсе". Правда, не ясно, где Лукашов изучал марксизм-ленинизм. Уж не в кадетском ли корпусе?..
(В зале нарастает шум, сидящие напротив трибуны работники редакции вскакивают, жестикулируют, ободряюще машут руками тем, кто шумит сзади. Ростислав Петров безмолствует).
Я: Может быть, вы разрешите мне продолжить?
ГОЛОСА: "Просим! Просим!" — сквозь неразборчивый гул.
Я продолжаю: Можно увеличивать количество примеров, но боюсь утомить. Да и, в сущности, сама тема как-то не располагает к смеху. Тем более, что автор при всем желании не может умолчать о преступлениях своего любимца, которые сегодня у всех на виду. И он говорит о них — но как?.. Он говорит о них так, что наше нравственное чувство оскорблено тем позитивным комментарием, который дается устами рассказчика на протяжении всего романа, о каких бы злодеяниях Сталина не заходила речь. Автор нигде не поправляет своего героя-рассказчика и не возражает ему, и оттого оценки Лука-шова выглядят окончательными в кругу затрагиваемых в романе проблем. Например, упоминается, что голод 1930-33 годов "унес около семи миллионов жизней плюс 750 000 уничтоженных кулаков и подкулачников". Эту беспримерную трагедию автор настойчиво называет "ошибкой" Сталина. "Ошибка!.." Путь-то намечен верный, да вот вышла кое-какая ошибка.*. Ошибка — размеров в 8 миллионов смертей?.. В русской литературе жизнь каждого человека считалась величайшей ценностью. Да что там — жизнь! Достоевский посвятил проникновеннейшие строки "слезе ребенка..." Но по Успенскому величайшее преступление Сталина — всего лишь "ошибка"!..