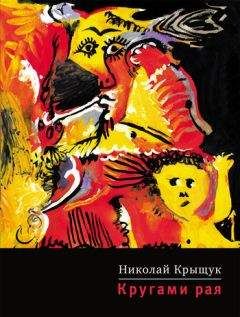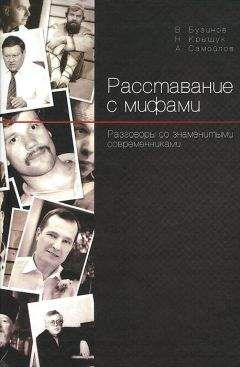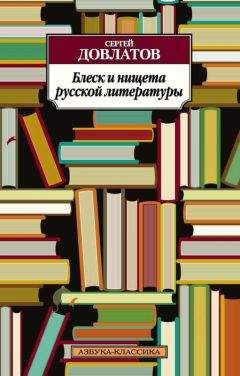Николай Крыщук - В Петербурге летом жить можно…
Долго не мог я избавиться от этого комплекса. Примеры великих, конечно, немного успокаивали. Иногда даже появлялось искушение объяснить плохую учебу собственной неординарностью.
Блок, например, был плохой ученик, отсиживался на задней парте, где всегда можно было «соснуть и списать». Ахматова гимназию ненавидела. Эйнштейн имел двойку по физике. Про Пушкина тоже известно. Ильич. Тот учился превосходно. С порога, бывало, объявлял об успехах дня. Мы таких в классе побивали за слабую мускулатуру, хвастовство и принципиальный оптимизм.
Не сомневаюсь, у отличника существует другая, не менее убедительная школьная версия. Но я думаю сейчас над своей.
Читаю «Самопознание» Бердяева: «Учился я всегда посредственно и всегда чувствовал себя малоспособным учеником. Одно время у меня был домашний репетитор. Однажды он пришел к отцу и сказал, что ему трудно заниматься с таким малоспособным учеником. В это время я уже много читал и рано задумывался о смысле жизни».
Явление настолько частотное, что нельзя не поддаться искушению и не попытаться определить общие причины. «Мои способности обнаруживались лишь тогда, когда я был в активном творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда процесс шел извне ко мне… По Закону Божьему я однажды получил на экзамене единицу по двенадцатибалльной системе. Это – случай небывалый в истории кадетского корпуса».
Как я это понимаю! Память моя была счастливо устроена – все ненужное я моментально забывал. Стихи мог часами читать наизусть, а армейский устав учил неделю, дольше, чем ребята из Средней Азии, которые русским языком владели, как я верховой ездой. Устав выучил, но если бы меня попросили тут же в аудитории повторить его еще раз – я бы не сумел, и до сих пор не помню из него ни слова, то есть хотя бы одного, для зацепки.
Столь же стремительно забыл я в свое время определение наречия, тригонометрию, количество пестиков и тычинок сначала в одном, потом во всех прочих цветках, клятву пионера… Из «Истории КПСС» кое-какие сведения застряли. Наверное, потому что проходил ее трижды: в школе, в университете и в армии.
Быть может, единственным и рано развившимся талантом моим было ощущение совершенной, в библейском еще смысле, реальности слова. При чтении некоторых книг у меня повышалась температура.
Тут же, на уроках истории, я чувствовал, что меня пытаются обмануть. У Зла было продажное выражение лица и надувные мускулы; в глазах его отчетливо просматривалась историческая обреченность. У Добра – артикулированная речь победителя и немилосердность, которую можно сравнить только с его же идеологической чистотой.
И ни капли простодушия здесь, и ни грана таланта там. Так не бывает. Я отчаянно скучал.
Из дневника
Тому, чему выучился, я выучился как-то сам, по охоте.
День в публичной библиотеке – короче росчерка спички. Выходишь – ноги легкие, нарзанные. Голова отсутствующая, как после путешествия. В то же время – обостренный взгляд иностранца. В то же время – добр, снисходителен и мудр. И рядом идут такие же отрешенные и светлоглазые.
Любовь, самое интересное, как-то под это дело свершалась.
А школа? Неужто ничего не дала и ничему не научила?
Несколько месяцев в пятом классе преподавала у нас литературу старая учительница. Скоро она ушла на пенсию. Мы еще долго ходили к ней домой, приносили цветы, пили чай. Иногда я заходил один.
Лицо ее помню, слов – нет. Помню ощущение, что литература – очень важное, ловко зашифрованное сообщение. Тем, кому понятно, – весело. Те, кто не понимает, – злятся и скучают.
В комнате учительницы было тесно от сухих букетов и старой мебели. Пожилая дочка сердито ушибалась бедрами о стулья. А мы продолжали разговаривать. За окном быстро темнело.
Историчка, которая пробыла у нас тоже недолго, была маленькой и легкой, как палый лист. При ходьбе ее уносило всегда немного в сторону, удивительно, как она в конечном счете выдерживала направление.
В класс она неизменно входила с зажженной папиросой, которая быстро гасла. Об исторических событиях говорила как о деле, которое было талантливо спланировано, но в силу погодных условий или же человеческой глупости и подлости реализовывалось в формах несколько прихотливых. Скупо, гневно, роняя детали, стуча указкой по карте. Мне казалось, так полководец рассказывает о сражении, в котором победил ценой больших потерь.
Однажды объявила: больше тройки у меня не получишь; умен не умный, а тот, кто умеет пристроить ум к делу.
Больше тройки я у нее так и не получил, но она мне нравилась.
Учительница немецкого несколько лет прожила в Германии. Обращалась к нам на «вы». Она говорила, что рабочий, который залезает в трамвай в грязной спецовке, не рабочий, а быдло. Немецкого рабочего не отличить от инженера – он так же опрятен и корректен, потому что уважает себя. Запомнилось как знак доверия. Если бы дирекция узнала о подобных разговорах, ее бы не поняли.
Нашу «немку» ничего не стоило отвлечь от темы урока. Она снимала очки, потирала увядшие веки, пела что-то из Вагнера, читала Гейне. Немецкий, правда, я до сих пор знаю посредственно.
К математике я был всегда глух. Тройки получал из милосердия. И вот уже в пору экзаменов на аттестат зрелости мне вдруг представился мир как объем.
Вместо того чтобы зубрить билеты, мы простаивали сутками в очереди за билетами на концерт Вана Клиберна. И вот, стоя в такой очереди, я взглянул на небо и впервые увидел вместо плоского полумесяца целую луну, включая и ее неосвещенную часть. У нее был цвет старого серебра.
Как я не видел этого до сих пор?
Через четыре дня был экзамен по стереометрии. Смысл этой науки уже не был для меня тайной. Я выучил ее легко, как песню.
Не веря себе, математичка, ежеминутно вставляя и вынимая из волос полукруглый гребень, стала задавать мне дополнительные вопросы (хотя вообще-то это дело профессионально подозрительной комиссии). Я ответил и на них. Потом прямо у доски решил неизвестно откуда вынутую задачку. Не дожидаясь, пока я уйду, З. М. сказала: «Хоть убейте, не могу я по ставить ему пять! Он никогда не знал математики».
Как ей было догадаться, что несколько ночей назад в дело вмешалась поэзия?
Из дневника
Что нас лепит? Что делает нас такими, какими мы в конце концов получаемся? Я имею в виду явления, более или менее доступные нашему пониманию, а не игры генетики. Например, родителей.
Родители, как правило, излишне полагаются на силу слов и регламента. Почти все они в душе коммунисты. А срабатывает какой-нибудь неучтенный, затерявшийся где-то на краю шкалы ценностей пустяк, что-нибудь сто шестидесятое. Именно оно образует первый слой нашего фундамента.
Из дневника (Есенин)
Я старше него чуть не в два раза. Если бы это еще наращивало талант. Хотя что такое талант? Хочется сказать – это страсть к смерти. Но тоже ведь предпоследняя формулировка. Не все, отдавшиеся этой страсти, талантливы. И потом – умереть гораздо легче.
Много сказано о том, что Есенина невозможно представить старым. Скрытое умиление его юношеским жизнелюбием, буйством гуляки и скитальца. А дело ведь совсем не в этом.
Что ему делать, действительно, в старости без специальных духовных запросов и при непомерном честолюбии? Какой-нибудь отец Карамазов? Невозможно. Есенин хотел быть хорошим. Очень важное. Не в смысле нравиться (это тоже хотел). Он истинно хотел быть хорошим.
Вот птица летит. Умеет ли ей кто-нибудь подражать? Неподражаемо. Так и поэт. Судить горазды – повторить неспособны.
Но, впрочем, разве это относится только к поэту? Все мы примерно одно и то же, а отличается каждый от другого тем, чем можно только быть.
Каждый художник по жизни эгоист: весь мир сошелся на мне, и именно поэтому я могу вам его подарить. При этом, конечно, один заботится о своих детях, а другой нет. Есенин не заботился. Даже не думал о них, кажется, и не вспоминал. Сам последние годы (до ссоры) был ребенком беззаветно и странно любившей его Галины Бениславской. Она тащила его на себе из кабака, получала за него гонорары, делила с ним свою комнату, терпела или отваживала собутыльников, стойко сносила сплетни, любовниц и жен, уговаривала каприз и похмельную жажду. Приревновала только к смерти.
Испытывал благодарность сыновью, то есть редко явленную. А сам при этом:
Поредела моя голова,
Куст волос золотистых вянет.
Это же как часто и внимательно надо было смотреться в зеркало!
Одни из лучших в мировой поэзии строки о родителях из «Исповеди хулигана»:
Бедные, бедные крестьяне,
Вы, наверное, стали некрасивыми…
Но при этом их мог написать лишь человек, уже заложивший душу городу.
Жил в нем Жюльен Сорель. Покоритель. То есть заведомо проигравший. Город таким еще не покорялся. Он только брал, выжимал и выбрасывал.
Оставался бы просто пастушонком. Но тогда выше Кольцова было бы не вырасти.