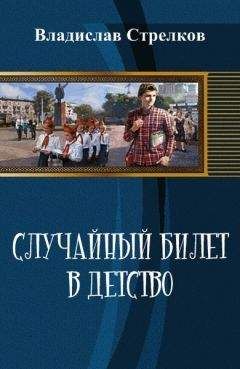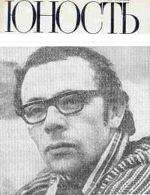Анатолий Тоболяк - Во все тяжкие…
Автономов выглядел действительно больным. Его глаза сухо блестели, а лицо было багровым от жара. Оно, показалось мне, как-то трагически осунулось. А голос… Это был уже не голос, а какофония свистящих, сопящих и хрипящих звуков.
— Красавец? — уловил он мой встревоженный взгляд.
— Да-а… Про таких в народе говорят: краше в гроб кладут, — честно ответил я. — Грипп, вероятно. А может, ангина. Глотка болит?
— Душа болит, — заперхал Автономов.
— В этом случае «скорая» не поможет, Костя. А надо бы вызвать.
— Не надо. Сам оклемаюсь.
— Ну, смотри. А может, все-таки вызвать?
— Не надо, сказал. Ты водки не притащил?
— Притащил, но тебе, пожалуй, не стоит принимать.
— А это уж я сам знаю, стоит или не стоит. Она, понимаешь, где-то шляется и даже не позвонит. А я тут подыхаю, как волчара, — осилил он длинную фразу, напрягая жилы на шее.
Мы прошли на кухню. Уселись, и я, мысленно осуждая себя за покупку, выставил бутылку на стол.
— А может, все-таки воздержишься, Костя? Нагонишь, чего доброго, температуру.
— Куда уж дальше! Она и так запредельная. А какова Милена, скажи!
— Придет, никуда не денется. Подруга задержала, только и всего.
— По фамилии Ростропович, да? — спросил Автономов, точь-в-точь как я, наделивший мужскими именами неведомую подругу Наташи.
— Брось, брось, Костя! Кончай! Лекарство ты принимал? Если принимал, то водяра исключается.
— Отстань! Наливай. Она мне за вчерашнее мстит. Я ее вчера сильно обидел подозрениями. Вот поэтому… — Его голос пресекся. Он несколько раз двинул кадыком, сглатывая слюну, и продолжил с болезненными усилиями: — Вот поэтому сбежала к подруге. Мне назло, чтобы меня наказать. Там и сидит. Так ведь, Анатоль?
— Конечно. Где ей еще быть?
— Конечно, у подруги. А этот Ростропович… кха! кха! — закашлялся он, — ерунда, блеф! Ну, бывает иной раз… кха! кха!.. пьет она кофе в его кабинете. Ну и что? Что в этом криминального?
— Правильно, Костя! Вот такой ты мне нравишься, — обрадовался я его внезапной здравости и рассудительности. — За это и стопарь можно тебе налить. Или не надо?
— Надо, надо, еще как надо! Нашла с кем спутаться — с Ростроповичем!
— Костя!
— Позвонить бы могла от подруги или из автомата. Я тут подыхаю, а она… Перцу в водку надо добавить, горчицы тоже, — прохрипел Автономов.
— И соли, уксусу, чесноку?
— Нет, это лишнее. Дай-ка я сам коктейль сделаю.
И он действительно сотворил смесь из водки, перца и горчицы. «Будь здоров!» — произнес тост и залпом осушил полстакана огненного пойла. Я невольно закрыл глаза, уж очень страшное было зрелище. Но ничего с Автономовым не произошло — ни спазмов горла, ни мученических корчей… он лишь глубоко передохнул и закусил специфический напиток хлебным мякишем. Выпил и я свою дозу — без добавок пряностей. Не один он, видит Бог, был униженным и оскорбленным страдальцем…
— Теперь давай в постель, Костя, — скомандовал я, как дипломированный врач.
— А ты уйдешь? Бросишь меня?
— Не уйду. Не брошу. Дождусь Милену и тогда уйду.
— А твоя Натали закатит скандал — не боишься?
— Нет.
— Хорошая она женщина, твоя Натали. Повезло тебе, Анатоль. В твоем возрасте другую такую не найдешь. — («А в твоем?») — Ты береги ее, — с нечеловеческим сипом и хрипом вымолвил Автономов.
Позиция переменилась: теперь он лежал на своей семейной тахте, а я пристроился в кресле. Верхний свет я выключил, оставил лишь ночник и взялся за книгу, наугад вытащенную с нижней полки. Это оказался Новый Завет, изданный Московской епархией. Лучшего выбора в такой ситуации и ожидать было нельзя.
Автономов почти сразу уснул, но это было не облегчающее душу глубокое забытье, а какие-то бредовые страдания. Он мычал, хрипел, вертелся на своем ложе, выкрикивал что-то невнятное. Однажды он пробудился и здраво спросил:
— Ты здесь?
— Здесь я. Здесь. Спи.
— Милена пришла?
— Нет еще. Еще рано. Может, все-таки вызвать «скорую»?
— Нет, не вздумай. Сколько сейчас?
— Около одиннадцати. — (А было уже за полночь.) А потом стрелки перевалили за час, за два, оповещая о безнадежности ожидания Милены Самсоновны Никитиной… Я задремал, уронив Новый Завет на колени.
Неожиданно стало рассветать. (В эту пору ранние рассветы.) Автономов лежал на тахте разметавшись. Подушка и покрывало валялись на полу. Он глубоко, ровно дышал. Жаркая краснота его лица сменилась бледностью. Я притронулся ладонью к его лбу, он был холодный и влажный. ЧУДО! Произошло чудодейственное выздоровление, которое неизвестно чему надо приписать — то ли высшей силе, то ли огненному коктейлю.
На цыпочках я прошел на кухню и стал обшаривать настенные шкафчики в поисках кофе или чая. Новый Завет я прихватил с собой. Не он ли излучал ночью свою целебную силу на Автономова?
А Милена, учителка-коммуняшка, так и не появилась. А детский врач Наталья Георгиевна Маневич преспокойно досматривала последние сны — где? А солнце празднично всплыло на востоке, но новый разгорающийся день не обещал ни мне, ни Автономову ничего утешительного.
В десятом часу утра хозяин окликнул меня из гостиной слабым, но уже более или менее просветленным голосом. Я отложил Новый Завет и, преисполненный милосердия и сострадания, которые почерпнул с его страниц, поспешил на зов.
Автономов сидел на своей тахте, обхватив руками колени, — худой, жилистый, уже частично загоревший под дачным солнцем и бледнолицый. В его голубых не по возрасту глазах застыл испуг — то ли старый, ночной, то ли новый, утренний. Похоже, он пытался разобраться в обстоятельствах жизни, но не мог свести концы с концами. Но спросил он именно то, что я ожидал:
— Где Милена? Приходила, звонила?
Я попытался смягчить суровую правду:
— Нет, ее не было. Но возможно, что звонила. Я не слышал, отключился. Спал без задних ног.
— Вранье! Ты не мог не слышать звонка. Я мог не слышать, а ты не мог. Она не звонила, — вынес он приговор Милене.
— Ну даже если так? Что с того? Позвонит с работы.
— Что с того, говоришь? Ха! — то ли хохотнул, то ли харкнул Автономов. — А если бы твоя Натали пропала на всю ночь и ничего не дала о себе знать, как бы ты это оценил? — с горловыми муками выговорил он. СЛЫШИШЬ, НАТАША? АВТОНОМОВ ЗАДАЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС.
— Не знаю, — отрывисто ответил я. — А вообще-то знаю, но тебе не скажу.
— Закурить есть?
— Есть. Сейчас принесу.
Новый Завет лежал на кухонном столе. Я бегло положил на него ладонь, чтобы набраться, надо думать, неземных сил.
Когда я вернулся с сигаретами и пепельницей, Автономов уже сидел за телефоном и накручивал диск. Номер, очевидно, был занят.
— Держи. Но зря куришь.
— Ничего, не переживай! — задымил он и опять закрутил наборный диск. Кто-то ему ответил. И едва он произнес, напрягая жилы на шее: «Але! Рыбвод? С кем говорю?», — я тотчас устремился на кухню. Проявил тем самым чрезвычайную деликатность. Для верности прикрыл две двери, изолировал себя и его.
Но ненадолго. Уже минуты через три, а то и раньше, хлопнула дверь гостиной, а затем распахнулась кухонная. Вошел Автономов, босой и в трусах. Лицо его было уже не бледным, а — показалось мне — ядовито-зеленым. (Впрочем, я дальтоник и мог ошибиться.)
— Так! Кофейком балуешься? Это хорошо. Это пр-равилыю, — проскрежетал он. — А чего-нибудь посущественней не хочешь? — тотчас взялся он за ополовиненную бутылку.
— В такую рань? Нет, не хочу. И синдрома нет. А тебе зачем?
— А затем!
— Алкашишь, Костя. Брал бы пример с меня. Видишь, Новый Завет читаю. Как непьющий, верующий, интеллигентный человек.
— Будь здоров! — прервал он меня.
И выпил своим обычным методом, который, в общем-то, является и моим, а говоря масштабно, общетойохаровским, а еще масштабней — всероссийским, — залпом и до дна. Я подсунул ему сковороду с яичницей, поджаренной рано утром и мной уже опробованной. Но он обошелся, как и вчера, хлебным кусочком и новой сигаретой. ПЛОХО ДЕЛО. ОЧЕНЬ ПЛОХО ДЕЛО.
— Чего не интересуешься, как я переговорил? — пристроился он на пластиковом табурете около стола. Каждое слово давалось ему все-таки с трудом.
— А мне неинтересно, вот и не интересуюсь, — отвечал я.
— Вот как! Неинтересно тебе?
— Ну да. Сюжет исчерпан, Костя. Она была у подруги. Позвонить не смогла потому, что не было телефона. Или не захотела, потому что зла на тебя. Это все мы уже проходили вчера.
— Эх ты, сочинитель! Зря я тебе спонсировал новую книжку. Бездарь ты, оказывается! — сумел он извлечь из себя целую гамму оскорбляющих слух звуков. И продолжал, не жалея ни своего горла, ни моих ушей: — Все ты опрощаешь, как в своих книжках. А жизнь куда сложней. ЕЕ НЕТ НА РАБОТЕ. И НЕ БУДЕТ. Каков сюжет? — выдал он новость и уставился на меня своими маленькими, узко поставленными глазами, уже не голубыми, а темными. Просверлил, так сказать, меня взглядом насквозь. Я растерянно поежился. Промямлил: