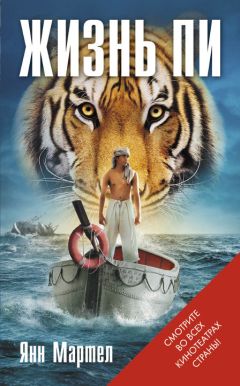Жизнь Пи (СИ) - Мартел Янн
Ричард Паркер предупреждал меня таким образом четыре раза. Четыре раза он бил меня правой лапой, отбрасывая за борт, и все четыре раза я терял свой щит безвозвратно. Я боялся до, во время и после каждого его выпада, да и потом, уже на плоту, я все сидел и дрожал от страха. Но в конце концов научился различать сигналы, которые он мне подавал. Оказывается, ушами, глазами, усами, клыками, хвостом и глоткой он разговаривал со мной на простом языке, давая мне понять, каков будет его следующий шаг. И я научился отступать еще до того, как он вскидывал лапу.
Потом я сам встал в позу: уперся ногами в планширь, раскачал шлюпку посильнее и заговорил уже на своем, однозвучно свистящем языке, после чего Ричард Паркер, урча и задыхаясь, валился на дно шлюпки как подкошенный.
Пятый щит прослужил мне до самого конца дрессировки.
73
Больше всего на свете — кроме спасения — я мечтал о книге. Большой книге с бесконечной историей. Такой, которую можно было бы читать и перечитывать, всякий раз открывая для себя что-то новое. Но в шлюпке такой священной книги, увы, не было. И я ощущал себя безутешным, как Арджуна в разбитой колеснице, коего не коснулось благословение Кришны. Когда я впервые открыл Библию — было это уже в Канаде, — лежавшую на ночном столике в номере гостиницы, я разрыдался. И на другой день отправил в «Гидеон»[15] денежное пожертвование, выразив в сопроводительной записке пожелание увеличить тираж Библии, чтобы ее можно было читать не только в гостиницах, но и везде, где случится преклонить голову усталым, изнуренным путешественникам, — и не только Библию, но и другие священные книги. Думаю, лучшего способа сеять веру не существует. Ибо ни громогласные проповеди с кафедры, ни хула вероотступников, ни давление властей — ничто не имеет такой силы, как священная книга, которая лежит себе тихонько и ждет, чтобы подарить вам приветствие, такое же нежное и горячее, как поцелуй маленькой девочки.
В крайнем случае сгодился бы какой-нибудь роман, только хороший! А у меня была одна лишь инструкция по спасению, да и ту я успел зачитать до дыр, пока страдал и мучился.
Правда, я вел дневник. Но читать его трудно. Писал я так мелко, как только мог. Все боялся, бумаги не хватит. Хотя там нет ничего особенно интересного. Самые простые слова, которые я царапал на странице, стараясь правдиво описать все, что со мной приключилось. А начал я его где-то через неделю после крушения «Цимцума». До этого у меня и других дел хватало, да и не было сил. В записях нет ни дат, ни нумерации. Просто поразительно, как время могло так сжаться. Несколько дней, несколько недель — и все на одной странице. А писал я, как вы, верно, догадываетесь, о том, что переживал и что чувствовал, что поймал и что упустил, писал про море и про погоду, про невзгоды и про удачи, про Ричарда Паркера писал. Словом — про все, про все.
74
Религиозные обряды я справлял, сообразуясь с обстоятельствами: службы служил в одиночку, без священника и без причастия, даршаны — без мурти, пуджи — с черепашьим мясом вместо прасада, а Аллаху поклонялся без малейшего понятия, где она — Мекка, да еще на скверном арабском. Но все это меня утешало, верно говорю. Хотя и давалось нелегко, ох, до чего же нелегко! Вера в Бога есть открытие, освобождение, глубочайшее доверие, свободное изъявление любви — но как же порой трудно любить! Иной раз сердце так быстро наполнялось гневом, отчаянием и усталостью, что я боялся, как бы от тяжести такой оно не пошло к самому дну Тихого океана, откуда мне уже нипочем его не достать.
В такие минуты я старался собраться с духом. Хватался за тюрбан, который смастерил из лохмотьев, и громко возглашал: «ВОТ ШАПКА ГОСПОДНЯ!»
Хлопал себя по штанам и возглашал: «ВОТ ОДЕЖДЫ ГОСПОДНИ!»
Показывал на Ричарда Паркера и возглашал: «ВОТ КОШКА ГОСПОДНЯ!»
Показывал на шлюпку и возглашал: «ВОТ КОВЧЕГ ГОСПОДЕНЬ!»
Обводил вокруг руками и возглашал: «ВОТ БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ ГОСПОДНИ!»
Показывал на небо и возглашал: «ВОТ УХО ГОСПОДНЕ!»
Так вспоминал я о сотворении мира и о своем месте в нем.
Только вот шапка Господня почему-то все время разваливалась. Одежды Господни расходились по швам. Кошка Господня постоянно пугала. Ковчег Господень больше смахивал на плавучую тюрьму. Бескрайние просторы Господни медленно изматывали меня донельзя. А ухо Господне, похоже, было глухо к моим мольбам.
Отчаяние окутывало меня непроглядно черной пеленой, не пропускавшей свет ни снаружи, ни изнутри. Это был сущий ад. Слава богу — преходящий. То косяк рыб облепит сетку, то узел начнет стонать, требуя затянуть его потуже. Или, вспомнив вдруг своих, я порадуюсь: как хорошо, что их не постигли столь страшные муки. И вот уже черная пелена растворяется и пропадает, а Бог остается, теплясь лучиком света в моем сердце. И ко мне снова возвращается любовь.
75
Однажды, когда, по моим подсчетам, был матушкин день рождения, я во весь голос пропел ей «С днем рождения!».
76
Я взял себе за правило убирать за Ричардом Паркером. Убедившись, что он испражнился, я тут же брался за уборку, хотя это было небезопасно: до экскрементов еще надо было дотянуться с брезента острогой. В фекалиях быстро заводятся паразиты. В природе животным от этого никакого вреда, потому как они редко задерживаются в тех местах, где испражняются, да и на экскременты почти не обращают внимания; древесные обитатели их вовсе не замечают, а сухопутные, испражнившись, обычно идут себе дальше. Другое дело — ограниченная территория зоопарка: оставить экскременты в клетке животного — значит заразить его повторной инфекцией, поскольку животное не преминет их съесть, ведь звери, как известно, падки на все, что с виду напоминает корм. Вот почему загоны и клетки необходимо чистить, а вовсе не ради того, чтобы пощадить глаза или носы посетителей. Однако сейчас я заботился совсем не о поддержании репутации семейства Патель, снискавшего себе славу заботливых хозяев зоопарка. Через несколько недель у Ричарда Паркера начался запор — он уже испражнялся не чаще одного раза в месяц, и с точки зрения санитарных норм забота о нем едва ли стоила сопряженных с нею опасностей. Убирал же я по другой причине — потому что заметил, как, испражнившись первый раз в шлюпке, Ричард Паркер попытался скрыть результат. Я живо смекнул, что это значило. Выставлять напоказ свои экскременты, да еще с запахом, — вот он, знак социального превосходства. И наоборот, скрыть их означало проявить уважение — уважение ко мне.
Должен заметить, поначалу ему это не нравилось. Он прижимался к днищу шлюпки, запрокинув голову и прижав уши, и тихонько и робко ворчал. Я действовал предельно осторожно и вместе с тем решительно, но не ради собственной безопасности, а чтобы подать ему верный сигнал. И сигнал этот заключался в том, что, взяв его экскременты и повертев несколько секунд в руке, я подносил их к носу, громко втягивал воздух, глядя на него сперва украдкой, а потом во все глаза (если б он только знал, как мне было страшно!), и так и смотрел — достаточно долго, чтобы он начал нервно дрожать, и недостаточно долго, чтобы его спровоцировать. И всякий раз, глянув ему прямо в глаза, я резко свистел в свисток. Таким образом, дразня его взглядом (поскольку прямой взгляд у животных, как и у нас, считается проявлением агрессии) и пронзительным свистом, вызывавшим у него жуткие ассоциации, я давал Ричарду Паркеру понять, что у меня есть право, высшее право, брать и нюхать его экскременты, когда мне хочется. Так что, как видите, меня больше заботила не чистота в моем зоопарке, а мое психологическое превосходство. И это сработало. Ричард Паркер перестал в ответ смотреть мне прямо в глаза; взгляд его будто повисал в воздухе, не задерживаясь ни на мне, ни рядом. Я чувствовал это так же отчетливо, как комья его экскрементов в руке, — утверждение своего превосходства. Подобные упражнения стоили мне сил, но и доставляли большую радость.